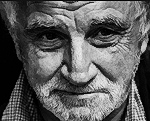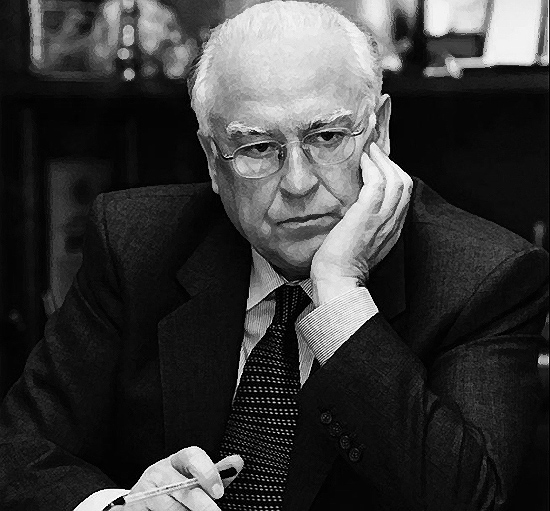Удивительное дело, но враги поняли его лучше, чем друзья — и ненавидят за дело, и не могут себе простить, что вовремя не раскусили его намерений. Друзья же старательно доказывают, что никаких намерений и не было, что все у него получилось случайно и не так, как он хотел.
«Не начал вовремя серьезную экономическую реформу, переложил уплату по счетам коммунистического режима на плечи новорожденного российского правительства» — и он с готовностью признает: да, мол, ошибочка вышла, недопонял-недооценил… И никто не задастся вопросом: а как бы прошла эта самая реформа — при КПСС? При сохранении партийной властной вертикали и действующем КГБ!
В августе 1991 москвичи не поддержали ГКЧП; а если бы перед этим взлетели под небеса цены? Ей-богу, не нужно быть большим ученым, чтобы предсказать, как бы тогда развивались события. Как-то все быстро забыли, какое негодование вызывали у большинства сограждан «ворюги-спекулянты», вся вина которых заключалась в том, что они предлагали по свободным ценам разные соблазнительные мелочи, каких отродясь не бывало в советских магазинах.
Хорошо, но почему тогда он так упорно цеплялся за эту свою партию? Почему не ушел с поста генерального секретаря на год-два раньше? И он признает: да, и тут промахнулся… Допустим, не «промахнулся» бы — и ушел. Но партия была костяком государства, все нити реальной власти находились в руках партийных комитетов разного уровня. Помните, как четко и слаженно заработала вся эта структура в августе 1991-го? А что представлял собой Верховный Совет СССР, помните? На горстку крикунов из Межрегиональной группы обращал внимание только он один, а большинство там было ого-го какое…
Он готов каяться в чем угодно: и окружение себе не сумел подобрать, и доверял тем, кому не следовало… Но мы-то должны хоть немножко соображать и задать себе хоть самые элементарные вопросы. Например, такой: каким образом человек, не сумевший оценить вполне очевидные для всей страны — даже по телевизору! — деловые и человеческие качества Геннадия Алексеевича Янаева, — как такой человек вообще мог пройти все ступени партийной служебной лестницы и в 54 года оказаться на высшем посту в государстве? Ну нельзя же, в самом деле, рассуждать о событиях 1990-1991 годов, не задавшись столь очевидным вопросом. Ведь такого вице-президента еще поискать надо было, ведь все криком кричали: шо ж вы, блин, делаете, Михал Сергеич?!
Согласитесь, как-то не все тут на поверхности, есть еще о чем подумать. Не знаю, как для вас, а для меня эта загадка разъяснилась 19 августа 1991 года: Янаев был найден именно для этой роли, и лучше него «президента-самозванца» не сыграл бы никто.
Мы до сих пор никак не поймем: он сделал то, что сделать было невозможно, немыслимо! И вместо того, чтобы на факультетах политологии изучать, каким же образом у него все получилось, мы тупо талдычим, что все вышло само, а он и знать не знал, чего хотел.
Главный аргумент в пользу того, что он проиграл дело своей жизни, — то, что он потерял власть. Ну, не мог же, в самом деле, нормальный политик в здравом уме и твердой памяти сознательно рубить сук, на котором сидит, и добровольно отдавать свою власть. Так не бывает, так не бывает никогда и ни с кем! И задним числом ему дают советы — что надо было сделать, чтобы власть сохранить. Вот уж воистину, люди не видят очевиднейших фактов, если эти факты не согласуются с их заветными убеждениями.
Те же, кто видел его прощальную президентскую речь, помнят — это была речь победителя, а не побежденного; речь человека, сделавшего свое дело.
Этот человек настолько последовательно и твердо ослаблял собственную власть, что объяснять это недальновидностью, извините, просто глупо: технологии властвования ему были известны лучше, чем кому бы то ни было.
История августа-91 до сих пор загадочна. Все мемуаристы в один голос твердят, что он всегда помнил о судьбе Хрущева. И вот, поди ж ты, уехал отдыхать в самый критический момент, когда со всех сторон неслись предупреждения о зреющем заговоре, а вся союзная верхушка была загнана в угол готовящимся подписанием нового союзного договора. Это выглядело настолько невероятным, что сразу поползли слухи, что, дескать, он обо всем знал, тут какой-то тонкий расчет… Теперь уж все хором твердят: «путч» был им подстроен, чтобы при любом раскладе остаться «на белом коне». И никто не помнит, как в те дни было ясно обратное — при любом раскладе он теряет власть.
Абсолютно ясно одно: «ошибиться» он позволил себе как раз тогда, когда уже было можно — случись подобная промашка на каких-нибудь три месяца раньше (до всенародного избрания Ельцина), и в российской истории стало бы одной «трагедией неудавшегося реформатора» больше. Но его ошибка попала точно в «десятку», и история перестройки увенчалась тремя августовскими днями, до боли похожими на выпускной экзамен — трудный, опасный, но давший стране какой-то начальный импульс самоуважения, которого хватило… Ненадолго хватило, совсем ненадолго. Но на самые трудные и опасные годы оказалось достаточно, и гражданская война в тот раз не началась.
Он очень много говорил, но ни разу не позволил себе сорваться и наговорить лишнего. Он знал, что его кабинеты прослушиваются, и откровенные разговоры с женой вел только на долгих вечерних прогулках. Слова для него были только орудием политики, и он, как никто, умел использовать их силу — то для убеждения, а то и для усыпления аудитории, в зависимости от ситуации. В личных целях он публично словами никогда не пользовался и даже, кажется, не умеет этого делать. Сойдя с самолета 21 августа 1991 года, он позволил себе самую большую откровенность в своей жизни: «Я все равно никогда не скажу вам всего…». И обещание свое сдержал, хотя можно представить, чего ему это стоило и стоит в то время, как разнообразными «разоблачениями» занялись все кому не лень. Но мы-то ведь уже большие мальчики и девочки, может быть, способны и сами хоть что-нибудь понять?
Получив на выборах 1996 года так постыдно (для нас!) мало голосов, он мог с полным основанием сказать что-нибудь не очень лестное о своих соотечественниках и их вечной готовности лизать только бьющую руку. Не сказал, конечно — ведь по-прежнему не народ для него, а он для народа, и он вовсе не рассчитывал на понимание и благодарность. Но он все же человек, и непонимание не может его не ранить. Давайте попробуем понять — и вместить, и поразиться, и простить ему то, чего многие простить не в силах — то, что он великий человек и великий политик. Такая вот фигня.
Та же мысль в изложении Дмитрия Фурмана:
«Одной из самых больших психологических загадок Горбачева является то, что он не производит впечатление проигравшего человека. Так воспринять поражение и неизбежно следовавшие за ним унижения мог только человек, для которого власть – не самоцель, а средство для реализации его идеалов. Поражение было частью той цены, которую он был готов за них заплатить. И это поражение – его самая большая победа, победа над логикой политической борьбы, над ведущим к катастрофе «здравым смыслом», над собственными естественными, человеческими властными импульсами.
Горбачев – единственный в русской истории правитель, который, имея всю полноту власти, пошел на риск ее потерять во имя своих идей и свободы других. Он показал, что для политика может быть что-то, что важнее власти. … У нас есть одна несомненная фигура, «оправдывающая» русскую политическую историю и русскую политическую культуру, фигура, которой мы можем гордиться сейчас и которой обязательно будут гордиться наши потомки. Это – Горбачев».
«Перестройка» в СССР и конец «холодной войны»
От двух «систем» – к единому миру
«ВЕТЕР ПЕРЕМЕН»
Где выход из тупика? Жизнь в стране, казалось, спокойно и размеренно катилась по хорошо наезженной колее. Мысли многих людей о необходимости и неизбежности перемен мирно уживалось с ощущением незыблемости существующей системы: если бы тогда проводились социологические опросы на подобные темы, 90% опрошенных наверняка бы сказали, что и дети их, и внуки будут жить «при социализме» под руководством КПСС. Поэтому ту лавину событий, которая всего за шесть лет разрушила не только тоталитарный «социализм», но и СССР, многие до сих пор воспринимают как результат волевых действий одного-единственного человека – Михаила Сергеевича Горбачева. Лишь немногие специалисты, хорошо знакомые с реальным положением дел в экономике страны, понимали в то время, насколько мало выбора у этого человека, пост которого, казалось, давал ему безбрежные возможности.
Все предыдущие попытки заставить планово-командную экономику работать на современном мировом уровне потерпели крах и лишь доказали, что эта система нуждается не в косметическом ремонте, а в полном, коренном переустройстве. Но трудно было представить, каким образом может начаться такая ломка обанкротившейся системы, – потому что ломать ее было некому, кроме самой правящей номенклатуры. Никаких оппозиционных власти организованных общественных сил не было.
В истории человечества известно множество примеров того, как правящие круги, не способные «наступить на горло» собственным интересам, доводили свои страны до кровопролитных революций и гражданских войн. От советской аппаратной элиты, правившей в СССР монопольно и безраздельно, тем более трудно было ожидать дальновидной готовности к самоограничению. Опыт последних тридцати лет воочию показал, что любая попытка покуситься на ее интересы или пресекается, или умело блокируется. Партия, низко кланяясь очередному «вождю», окружая его неумеренной лестью и почестями, в то же время зорко следила за каждым его шагом.
Ломка системы была неизбежна, но казалась невозможной.
«Предперестройка». 54-летний Михаил Горбачев – самый молодой из членов тогдашнего Политбюро – оказался на посту Генерального секретаря ЦК КПСС в результате длительной и сложной борьбы в «высших сферах» партийного руководства. Причины его стремительного «взлета», как, впрочем, и всех кадровых перестановок той поры, возможно, никогда не станут известны до конца. Как бы то ни было, «молодой» генсек на фоне престарелого Политбюро сразу привлек к себе интерес и симпатию страны. На первых порах люди радовались уже тому, что «эпоха похорон» кончилась, что у нового руководителя нет на груди «иконостаса» из множества орденов (и что свой орден он получил еще в молодости за работу комбайнером), что он может говорить без бумажки, не поощряет ритуальных славословий в свой адрес – в общем, ведет себя как живой человек, а не гранитный монумент, олицетворяющий величие КПСС.
Первые шаги нового руководства по стилю и направлению напоминали время Андропова. На апрельском (1985 год) пленуме ЦК было признано, что СССР сильно отстает от стран Запада, что экономика страны неблагополучна и нуждается в серьезных реформах. Газетные страницы запестрели словами «ускорение», «интенсификация»… Это были по сути те же задачи, которые безуспешно ставились на протяжении предыдущих тридцати лет, но никаких новых способов их решения пока не предлагалось.
В мае последовал первый ощутимый практический шаг нового руководства: началась кампания «борьбы с пьянством и алкоголизмом».
Первый раз в советской истории руководство страны не просто развернуло шумную пропаганду трезвого образа жизни, но и пошло на серьезное сокращение производства и продаж спиртного (до этого, начиная с 20-х годов, крепкие напитки производились во все возрастающих количествах и составляли важнейшую статью доходов госбюджета).
Добрые намерения инициаторов кампании бесспорны, но поразительна их экономическая недальновидность: именно тогда в бюджете государства пробили первую большую «брешь», заткнуть которую было нечем, кроме печатания все новых бумажных денег. Вдобавок эта жертва оказалась почти напрасной: граждане, не имея возможности купить водку в магазине, обзаводились самогонными аппаратами и переходили на «самообеспечение». Начались перебои с сахаром, который до этого (как и водка) никогда не был дефицитом в нашей стране, производившей его больше всех в мире.
Примерно в то же время развернулась еще одна кампания – «борьбы с нетрудовыми доходами». Предполагалось, что она ударит по спекулянтам (втридорога перепродающим дешевые, но дефицитные товары госпромышленности) и по вековечному российскому злу – чиновничьему казнокрадству и взяточничеству. Но, поскольку «нетрудовым доходом» в советской стране считался любой приработок помимо госслужбы, то главному преследованию подверглись люди, подрабатывавшие именно трудом рук своих («нелегальным» ремонтом всякого рода, продажей собственных домашних изделий, овощей со своего огорода и т. д.). «Борьба» эта вызвала массу возмущенных откликов и скоро сошла на нет.
В 1985–1986 годах началась целенаправленная смена партийно-государственного руководства буквально на всех уровнях – отправлялись в отставку «брежневские» кадры, на их место приходили более молодые, энергичные аппаратчики из ближайшего «резерва».
Дальнейшие события показали, что абсолютное большинство нового поколения партруководства составили люди, готовые сменить лишь слова и лозунги («давайте перестраиваться, ничего не меняя»). Даже те из них, кто искренне пытался (старыми, приказными методами) изменить к лучшему положение в своем колхозе, на заводе, в области, в стране, отступали при первых же трещинах «основ» тоталитарного социализма.
Среди членов Политбюро только три человека, как оказалось, готовы были выйти за рамки «косметического ремонта» одряхлевшей системы – сам Михаил Горбачев, Александр Яковлев и Эдуард Шеварднадзе. Энергично взялся наводить порядок в столице новый партийный руководитель Москвы Борис Ельцин.
«Новое политическое мышление». Может быть, именно потому, что реформаторы были в меньшинстве, первые реальные изменения начались во внешней политике – в сфере, которая, по сложившейся традиции, контролировалась лично Генеральным секретарем. В феврале 1986 года на ХХVII съезде КПСС Горбачев провозгласил новую концепцию внешней политики СССР, названную им «новое политическое мышление».
Каждому советскому человеку с пеленок внушалось, что мир делится на две части: «мы» – социалистические страны, воплощение добра и справедливости – и «они» – «мир капитала», где разжиревшие на страданиях трудящихся капиталисты угнетают рабочих, где все продается и покупается, а справедливости нет и быть не может. От «них» исходит все мировое зло, «они» ненавидят нас, стараются нам всячески навредить, и даже то плохое, что есть в нас, – это во многом результат «их» разлагающего влияния. Естественно, что бороться с «ними» – наша святая обязанность, и во всех международных конфликтах наша страна всегда права. Даже если наша армия вторгается в соседнее государство, то это необходимо, чтобы помочь неким «светлым» силам против «темных», и всякие протесты «империалистов» против нарушения международного права, прав человека и т. п. насквозь фальшивы и лишь прикрывают их истинные корыстные интересы. Другими словами, Советский Союз, претендуя на роль защитника всех «прогрессивных сил» в мире, оставлял за собой право на любые действия, в том числе и выходящие за рамки юридически закрепленных международных норм (хотя подписи его руководителей стояли под всеми основными документами, в которых эти нормы формулировались).
«Новое политическое мышление» фактически означало, что отныне Советский Союз обязывается соблюдать все нормы международного права безусловно. Мир был признан целостным и неделимым, а не расколотым на две непримиримые системы – т. е. руководство СССР отказывалось действовать по принципу «чем хуже для империалистов, тем лучше для нас». Силовые методы (война или угроза войны) признавались недопустимыми также и для Советского Союза. Провозглашался «приоритет общечеловеческих ценностей» над классовыми, национальными, религиозными и т.д.
Эти далеко не всем тогда (да и сейчас!) понятные слова имели на самом деле очень важный смысл и фактически отвергали главную идею коммунистов всех времен и народов. «Приоритет общечеловеческих ценностей» означает, что нельзя ограничивать права человека (а тем более, убивать его) только за то, что он капиталист-«эксплуататор», нельзя посадить человека в тюрьму за то, что он не считает социализм лучшим в мире общественным строем, нельзя оправдывать преступления «классовыми интересами трудящихся»… Наконец, нельзя считать однопартийную диктатуру «высшей формой демократии» на том только основании, что правящая номенклатура утверждает, будто она «выражает интересы трудового народа».
Всех этих далеко идущих выводов, касающихся и внутренней политики, Горбачев, конечно, в своем докладе не делал – и делегаты съезда по доброй партийной традиции проголосовали за «новое мышление» единогласно. Большинство из них понимало, что стране жизненно необходимо улучшение отношений с развитыми странами Запада, и что добиться такого улучшения без пересмотра традиционной внешнеполитической доктрины невозможно. «Новое мышление» было воспринято ими как уступка Западу на словах, как демагогия «на экспорт» (по образцу брежневской «разрядки»), но никак не для внутреннего применения. Впоследствии они осознали свою ошибку, но было уже поздно…
Первыми практическими проявлениями «нового мышления» в 1986-87 годах стали встречи Горбачева с лидерами стран Запада и начало переговоров с ними по самым наболевшим вопросам – о выводе из Европы и уничтожении советских и американских ядерных ракет, об Афганистане, об ограничении гонки вооружений. Изменение позиции советского руководства, готовность его не только предъявлять претензии противной стороне, но и принимать претензии в свой адрес сделала переговоры весьма результативными.
Уже в 1987 году удалось подписать советско-американский договор об уничтожении целого класса ядерных вооружений – ракет средней и меньшей дальности. Жители Европы перестали ощущать себя заложниками ядерного противостояния сверхдержав.
Позже, в 1988 году, в обмен на прекращение американской помощи афганским повстанцам Горбачев начал поэтапный вывод советских войск из Афганистана (последний советский солдат покинул афганскую территорию 15 февраля 1989 года – ровно через 10 лет после начала войны). Окончание бессмысленной и бесперспективной войны вызвало вздох облегчения по всей стране.
Контакты между лидерами сверхдержав имели и еще одно последствие: из советских лагерей и психбольниц освободили правозащитников-диссидентов, из ссылки в Москву возвратился академик Андрей Сахаров. Впервые с 1917 года в советских тюрьмах не стало политических заключенных.
Горбачев с его «новым мышлением» быстро завоевал на Западе широчайшую популярность. Советский Союз перестали называть «империей зла» и считать угрозой цивилизованному миру. США свернули свою противоракетную программу, предназначенную для отражения возможного советского ядерного удара. Появилась возможность расширения экономических связей со странами Запада, замедления непосильной уже для СССР гонки вооружений. Эти весьма весомые плоды «нового мышления» заставляли ортодоксов мириться с его «издержками» – необходимостью воздерживаться от политических репрессий, отказом от жесткой «идеологической борьбы», согласием выпустить на свободу своих идейных противников. Однако это было лишь начало перемен.
«Гласность». В докладе Горбачева на ХХVII съезде КПСС впервые прозвучало еще одно слово, впоследствии буквально «взорвавшее» страну и прогремевшее на весь мир, – «гласность». В это время оно, как и «новое мышление», вряд ли было кем-то воспринято всерьез. Все подавалось в привычной и не вызывавшей особых тревог форме: говорилось о «возврате к ленинским нормам», об «укреплении социализма», необходимости для партии «знать мнение народа» – и, естественно, почти никто из аплодирующих слушателей не думал, что «гласность» имеет хоть что-то общее с настоящей свободой слова. Тогда не только до свободы слова, но даже до более или менее правдивой информации хотя бы о важнейших событиях было еще очень далеко. Советские газеты, радио и телевидение, находившиеся под полным контролем партийного руководства, давали только «нужную» информацию и печатали только «правильные» мнения.
Очень ярко это проявилось в мае 1986 года. Об аварии на Чернобыльской АЭС советские люди узнали сначала из сообщений западных радиостанций, и лишь через несколько дней – из советских газет, которые, как всегда, старались «не сеять паники» и поэтому изображали событие как незначительный инцидент, не представляющий ни для кого серьезной опасности. На Украине шли радиоактивные дожди, но местные власти даже не отменили первомайскую демонстрацию. Постепенно, по крупицам вырисовывались истинные масштабы катастрофы; с огромным опозданием началась эвакуация людей из зараженной зоны. Все это в конечном итоге дало результаты, обратные задуманным, – люди, уверенные в том, что официальная печать и начальство могут только врать, начинали верить самым чудовищным слухам, страх перед радиацией доходил до паники.
После Чернобыля требования правдивой и своевременной информации зазвучали громче и настойчивее.
Само слово «гласность» появилось в стране уже во второй раз, впервые в России познакомились с ним в эпоху реформ Александра II. Означало оно в обоих случаях одно и то же – допущение правдивой информации «в интересах дела», в качестве «лекарства» от всяческих злоупотреблений чиновников. Принцип свободы слова при этом не признавался, и контроль над прессой правительство сохраняло.
При этом подходе главным было то, кто персонально будет контролировать прессу и давать указания цензорам. В первое время достаточно было назначить другого секретаря ЦК по идеологии, чтобы сразу изменить тон и содержание всех газет, журналов, радио- и телепередач по всей стране. Александр Яковлев, занявший этот пост, сделал все возможное для расширения границ дозволенного, защищал от нападок наиболее острые публикации.
Политика «гласности» произвела в стране настоящий фурор. Тиражи печатных изданий выросли многократно, у газетных киосков с раннего утра стояли очереди. Страна на время перестала читать книги – времени едва хватало на газеты и журналы. Дело было не только в том, что люди получили возможность узнавать из прессы более правдивую информацию – поражало изменение тона, непривычный дух свободы.
Очень важны были исторические публикации, не ограничившиеся, как в период хрущевской «оттепели», разоблачением преступлений Сталина, но затронувшие самые основы советской системы. «Реабилитация» Троцкого, Зиновьева, Бухарина и других казненных «врагов партии» означала, что принцип «вожди могут ошибаться, но партия всегда права» – рухнул, и вся советская история нуждается в критической переоценке. Вновь вспыхнули исторические споры, «замороженные» после Октября, и полемика довольно быстро переросла узкие рамки «внутрипартийной дискуссии» о правильных путях построения социализма: стали слышны голоса противников большевизма, эмигрантов разных поколений, диссидентов…
Тяжелые времена переживала гигантская армия идеологических работников (от партийных секретарей до школьных учителей), получавших «сверху» вместо четких установок – что и как внушать «массам» – странные и непривычные указания поощрять свободу дискуссий и разномыслие, еще недавно подлежавшие решительному искоренению. Складывалась необычная ситуация: правящая партия должна была своими руками разрушать одну из главных опор своей власти – монополию на оценку событий, на идеологию.
Это вызывало растущее противодействие номенклатуры. На словах политику «гласности» признавали все (принята съездом партии!), но буквально каждый новый шаг в этом направлении встречал яростное сопротивление. Партийные чиновники разных рангов то и дело возмущались «издержками гласности», призывали не путать ее с вседозволенностью, не «очернять» историческое прошлое страны и т. д.
Борис Ельцин. Смятение в рядах КПСС росло. В 1987 году впервые открыто перед всей страной обозначились серьезные противоречия внутри высшего эшелона власти. Безликое и якобы монолитное «коллективное руководство» начало распадаться на разные и весьма непохожие лица – «перестроечные» и «антиперестроечные» силы обрели конкретное воплощение.
На октябрьском (1987 года) пленуме ЦК случился инцидент, каких правящая партия не знала с конца 20-х годов. Кандидат в члены Политбюро, первый секретарь Московского горкома КПСС Борис Ельцин неожиданно выступил с критикой положения в партии и публично сообщил о своих разногласиях с тогдашним вторым человеком в Политбюро – Егором Лигачевым. Выступление Ельцина, на сегодняшний взгляд вполне «безобидное», вызвало тем не менее дружное возмущение участников пленума – ведь был открыто нарушен устоявшийся канон «единства руководящего ядра партии». Ельцин был снят со своих постов, но зато приобрел в глазах страны славу бескомпромиссного борца против партийной номенклатуры.
Инцидент с Ельциным ярко продемонстрировал, что большинство партийного чиновничества составляют противники дальнейших реформ, для которых уже гласность была явным «перебором».
Это подтвердил сам по себе незначительный, но многих напугавший эпизод, случившийся в марте 1988 года (ни Горбачева, ни Яковлева в это время в Москве не было). В газете «Советская Россия» была опубликована огромная статья вузовской преподавательницы Нины Андреевой под названием «Не могу поступиться принципами», в которой защищался Сталин и «наше славное историческое прошлое». Сразу после этой публикации развернулась идеологическая кампания в лучших традициях этого самого недавнего прошлого: статью по рекомендациям «сверху» перепечатывали местные газеты, «прорабатывали» в парторганизациях. Ни одна газета на протяжении месяца не выступила против защищаемых в статье «принципов». Многие решили, что гласности пришел конец.
Однако после возвращения Горбачева в «Правде» появилась официальная редакционная статья с резкой отповедью Нине Андреевой и всем «антиперестроечным силам». Позиции влиятельного секретаря ЦК Егора Лигачева (а инициатором всей этой истории был именно он) пошатнулись, гласность восторжествовала… Но все увидели, насколько хрупки «дареные» свободы, как мало шансов их сохранить, пока полная и неконтролируемая власть сосредоточена в руках номенклатуры КПСС.
XIX партийная конференция. Всесоюзная партконференция (июнь 1988 года) стала рубежом в развитии «перестройки»: она оказалась последним мероприятием из той серии хорошо отрежиссированных партийных форумов, к которым страна привыкла, начиная с 30-х годов. В ходе этой конференции уже были заметны некоторые отклонения от «нормы»: ее работа, в соответствии с принципом гласности, полностью транслировалась в прямом эфире, выступавшие ораторы спорили друг с другом (особенно по самому больному вопросу – о границах гласности); в разгар конференции на трибуну поднялся явно незапланированный оратор – «опальный» Ельцин, обратившийся к присутствующим с требованием своей «политической реабилитации», после чего произошла его публичная — на всю страну — перепалка с Лигачевым [восклицание Лигачева: «Борис! Ты не прав!» на другой же день вошло в народный фольклор].
Образ «нерушимого единства партии» рассыпался на глазах, но «внешние приличия» – единогласное голосование за все предложенные из президиума резолюции – пока свято соблюдались.
Самое важное случилось под занавес: уже после своего длинного, многословного и умиротворяющего заключительного слова Михаил Горбачев внезапно предложил расслабившемуся залу принять еще одну резолюцию. Уставшие функционеры, не ожидая подвоха, послушно и единогласно проголосовали «за»…
Это было последнее единогласное голосование в истории СССР: резолюция объявляла, что не позднее весны будущего, 1989 года, в стране должны состояться первые за семьдесят лет настоящие (т. е. альтернативные – с конкуренцией между несколькими кандидатами) выборы на Съезд народных депутатов. Появлялись первые возможности для подрыва партийного единовластия.
«Демократизация политической системы» (как и «новое мышление», и «гласность») также начала превращаться из лозунга в реальность. «Перестройка» развивалась, возвращая словам их настоящий смысл.
Изменения политической системы. Выборы на Съезд народных депутатов СССР, прошедшие весной 1989 года, нельзя назвать вполне свободными и демократичными (1/3 депутатов избирались от «общественных организаций» – КПСС, комсомола, профсоюзов и т. п.; выдвинутые кандидаты пропускались через своеобразный отборочный «фильтр» – окружные собрания, контролируемые местными чиновниками). Тем не менее, эти выборы всколыхнули всю страну. Именно тогда начали создаваться первые массовые независимые от КПСС (и резко оппозиционные ей) общественно-политические движения – «Демократические выборы» в России, «Народные фронты» в Прибалтике. С этого времени «перестройка» стала развиваться не только «сверху», но и под нарастающим давлением «снизу».
Съезды народных депутатов. 25 апреля 1989 года открылся I Съезд народных депутатов СССР. Его заседания в прямом эфире транслировались по телевидению и радио на всю страну – к экранам и радиоприемникам с напряженным вниманием приникли десятки миллионов людей.
По новому конституционному закону Съезд являлся высшим органом власти в стране. Но, конечно, реально управлять государством это гигантское – более тысячи человек – собрание не могло [поначалу зал заседаний даже не был оборудован системой электронного голосования, и добровольцы-депутаты бегали по залу, считая поднятые руки]. Главное значение события заключалось в другом. С этого момента в стране появилась свободная политическая трибуна, с которой можно было во всеуслышанье ставить любые, самые острые вопросы.
Чисто «кабинетная» политика стала невозможной – депутаты имели право потребовать от правительства отчета в любых действиях, и начали активно пользоваться этим правом буквально с первых же заседаний. И хотя абсолютное большинство съезда составляли люди, по традиции готовые послушно принимать предлагаемые «начальством» решения и с негодованием набрасываться на несогласных (за что их и прозвали «агрессивно-послушным большинством»), тон задавали не они, а находившаяся в меньшинстве демократическая оппозиция, объединившаяся в «Межрегиональную депутатскую группу». Именно к ее представителям прислушивалась вся страна, именно их имена – Юрий Афанасьев, Анатолий Собчак, Гавриил Попов, Юрий Черниченко, Николай Травкин и другие – сразу оказались у всех на устах. Сопредседателями Межрегиональной группы стали академик Андрей Сахаров и триумфально победивший на депутатских выборах в Москве Борис Ельцин.
Депутаты этой группы требовали более решительной и быстрой демократизации политической системы, перехода от гласности к настоящей свободе слова, отмены 6 статьи Конституции (эта статья узаконивала «руководящую и направляющую» роль КПСС в государстве), они жестко критиковали «архитектора перестройки» Михаила Горбачева за компромиссы с номенклатурой. И именно они стали его опорой в дальнейшем проведении «перестройки», встречавшей чем дальше, тем более сильное сопротивление со стороны его «товарищей» по Политбюро и ЦК.
Лозунги «межрегионалов» пользовались поддержкой массовых демократических движений, их скандировали на многотысячных митингах в Москве. Этот мощный напор «снизу» позволил (заставил? помог?) Горбачеву в марте 1990 года «пробить» в ЦК следующий важный шаг политической реформы: согласие на отмену 6-й статьи Конституции СССР, юридически закрепляющей однопартийную систему и всевластие КПСС, и на введение в СССР поста президента.
Уступки номенклатуры еще не означали потери ею контроля над властью. Первый президент должен был избираться не всенародным голосованием, а Съездом народных депутатов, и поэтому не получал слишком большой «свободы рук» (постоянно находясь под угрозой досрочного переизбрания). Отмена 6-й статьи также не могла сразу лишить власти партийную номенклатуру хотя бы потому, что в стране пока не организовались силы, готовые эту власть реально «перехватить». На III Съезде народных депутатов (март 1990 года) Михаил Горбачев был избран президентом СССР, сохранив за собой пост генерального секретаря ЦК КПСС.
ОТ «ПЕРЕСТРОЙКИ» — К РАСПАДУ СССР
«Национальный вопрос». На первом же Съезде народных депутатов обнаружилось, что «великая дружба братских народов СССР» не была прочной, и вовсе не только «волей народов» создавался «великий, могучий Советский Союз».
Депутаты от Эстонии, Латвии и Литвы заговорили о незаконности их насильственного присоединения к СССР в 1940 году и потребовали обнародования секретных протоколов к пакту Молотова–Риббентропа [более пятидесяти лет советские власти наотрез отрицали само существование этих протоколов, пользуясь тем, что в немецких архивах сохранились лишь их фотокопии]. Горбачев признал, что, «судя по всему», эти протоколы существовали, но не решился уличить во лжи своих предшественников и заявил, что оригиналы в советских архивах не найдены [после его отставки подлинники этих протоколов вскоре были обнаружены в архиве ЦК КПСС].
Представители других республик пока не поднимали вопроса о выходе из СССР, хотя их выступления показывали, насколько по-разному они видят будущее Союза и цели «перестройки», насколько различаются их проблемы и потребности. Обнажились многочисленные больные вопросы межнациональных отношений, старые конфликты, искусственно «замороженные» на многие десятилетия в тоталитарной империи (проявления «буржуазного национализма» карались лагерным сроком не только в сталинские, но и в брежневские времена).
Судьба Союза и урегулирование межнациональных отношений стало самым трудным и больным вопросом «перестройки».
Во многих республиках первые же веяния свободы обернулись вспышками кровавых межнациональных столкновений; на карте страны появились «горячие точки»: Нагорный Карабах, Сумгаит, Баку, Фергана, Ош, Сухуми… Трудно было понять, почему вдруг начинают убивать друг друга еще вчера мирно жившие бок о бок соседи, а простые и быстрые способы разрешения этих конфликтов найти не удавалось. Взрывались старые «мины»: произвольная перекройка границ между республиками, сталинские переселения народов. Все громче раздавались призывы придать реальный смысл советской декларации «о праве наций на самоопределение вплоть до государственного отделения».
Право союзных республик на выход из СССР было записано во всех советских конституциях, но никакого конкретного механизма такого отделения не предусматривалось – выйти из Союза законным путем было невозможно. Но даже не эти формальности были главной трудностью начавшегося развала империи – тяжелы и малопредсказуемы были реальные последствия распада СССР.
Во-первых, по Конституции СССР состоял из 15-ти республик, но в составе многих из них находились автономные республики и автономные области. Народы этих автономий готовы были потребовать суверенитета на другой же день после провозглашения независимости союзных республик (впоследствии именно это и происходило).
Во-вторых, до 60 миллионов человек в СССР жили за пределами «своих» национальных территорий. Аккуратно разделить страну так, чтобы каждый народ жил в собственном государстве, было совершенно невозможно – и, значит, любой раздел мог лишь подтолкнуть к образованию новых и новых очагов конфликтов, вызвать неуправляемую «цепную реакцию» распада.
И, наконец, экономика СССР, создававшаяся по единым планам из центра, представляла собой целостный организм. Многие предприятия являлись полными монополистами, и от их продукции зависела вся страна (например, когда встал завод, производивший каустическую соду, без стирального порошка остался весь СССР). Поэтому распад СССР грозил экономической катастрофой для всех.
Все мало-мальски реально мыслящие политики прекрасно сознавали, насколько опасен начавшийся процесс. Однако повернуть его вспять можно было лишь ценой отказа от реформ и возвращения к жесткой диктатуре. Многие – и не только в номенклатурном руководстве страны – готовы были эту цену заплатить. Ряд народных депутатов СССР объединился в депутатскую группу «Союз» под лозунгом сохранения империи любой ценой.
Но победила другая политическая линия: продолжение демократизации, и одновременно – попытки «сгладить», притормозить процесс распада, насколько это возможно без применения силы. Это была стратегия «цивилизованного развода», в идеале рассчитанная на создание нового, действительно добровольного и равноправного объединения республик.
Выборы 1990 года: новый этап демократизации и распада СССР. Весной 1990 года прошли выборы в республиканские и местные Советы. Эти выборы проходили уже без таких ограничений демократической процедуры, как год назад, и состав избранных Верховных Советов получился гораздо более радикальным. Председателем Верховного Совета РСФСР стал Борис Ельцин.
В Литве, Латвии, Эстонии, Азербайджане, Армении, Грузии на выборах победили политические движения, главным лозунгом которых была национальная независимость. Тем самым народы этих республик фактически проголосовали за выход из СССР – распад империи вступил в открытую фазу. Вслед за Литвой (11 марта 1990 г.) о своем государственном суверенитете один за другим объявили Верховные Советы всех республик, в том числе и России (Декларация о суверенитете принята на Съезде народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 года).
Правда, понятие «суверенитет» в разных республиках понимался по-разному. Если прибалтийские и закавказские республики провозглашали полную независимость и выход из Союза, то другие не исключали своего вхождения в Союз – но на новых условиях. «Суверенитет» для них означал прежде всего отказ от безусловного подчинения союзному правительству и возможность самостоятельно распоряжаться расположенной на их территории госсобственностью.
Именно эти мотивы – укрепление своей власти и контроль над собственностью – заставляли вместе голосовать за суверенитет республик и демократов, и националистов, и коммунистов – единодушно, под аплодисменты и всеобщее вставание.
«Расползание» Союза шло на фоне агонии КПСС и углубляющегося экономического кризиса.
Конец плановой экономики. В первые годы «перестройки» были перепробованы все рецепты советских экономистов по оживлению планового государственного хозяйства. Центральная идея этих рецептов заключалась в том, что предприятия заработают лучше, если «раскрепостить их творческую инициативу», избавить их от «мелочной опеки» министерств и плановиков. Предлагалось также «вернуться к нэпу», то есть допустить некоторую экономическую свободу при сохранении государственного планирования и государственной собственности на крупные предприятия. В этом направлении поначалу и действовали.
Было разрешено мелкое частное предпринимательство (законы о кооперации и об индивидуальной трудовой деятельности 1988 года). В короткое время наступил настоящий «бум» кооперативной торговли. Рынки заполнились всякого рода мелким ширпотребом – от одежды и безделушек до книг и цветов, появились «законные» частные услуги. Все это несколько смягчало товарный голод, но для массового сознания было непривычным и шокирующим. Советские люди за семьдесят лет прониклись прочным убеждением, что всякое обогащение неправедно, а свободные цены на кооперативную продукцию многих приводили просто в ярость. «Народным гневом» с удовольствием пользовались чиновники разных рангов для удушения первых ростков свободного предпринимательства. Но даже если бы этому мелкому бизнесу и дали развернуться в полную силу, все равно общая экономическая ситуация определялась положением в гигантском государственном секторе.
Здесь реформа заключалась в расширении свободы предприятий. Им задавался уже не жесткий и всеобъемлющий план, а госзаказ только на часть производимой продукции – другую ее часть директора могли продавать кому угодно по «договорным» ценам. Самих директоров стали теперь выбирать на общих собраниях трудовых коллективов – руководитель, прошедший «чистилище» перевыборов, был уже гораздо менее зависимым от «центра».
Эти меры проводились в жизнь гораздо решительнее, чем в свое время «косыгинская» реформа (основанная на схожих идеях) – и они в мгновение ока разрушили плановую экономику. Причина неудачи подобного реформирования была все та же – главная беда советской экономики со времен Хрущева была не в недостаточной свободе хозяйственников и трудовых коллективов, а в их недостаточной ответственности (рублем!) за результаты своего труда.
Реальную ответственность могли обеспечить только рынок со свободными ценами и частная собственность – а этого как раз и не было. Пока власть в стране оставалась в руках КПСС, вопрос о переходе к рыночной экономике и передаче предприятий в частную собственность даже не обсуждался – ведь это означало бы «отказ от завоеваний социализма» и «реставрацию капитализма в стране»! При отсутствии же рынка и частной собственности расширение свободы директоров и трудовых коллективов лишь давало им новые возможности урвать кусок от государственного «пирога».
Директора предприятий получили свободу распоряжаться государственными средствами и одновременно стали зависимы от своих коллективов – в итоге деньги шли не столько на развитие производства, сколько на увеличение зарплат.
Денежные доходы населения за два года (1987-89) выросли на 23%. Производство при этом не росло – и «лишние» деньги осели на сберкнижках: сумма вкладов за эти же годы удвоилась и достигла астрономической по тогдашним масштабам цифры. Все это были «пустые», ничем не обеспеченные деньги – потратить их в магазинах было не на что (с прилавков «смели» даже те товары, которых раньше не брали и самые неприхотливые покупатели).
Правительство, оказавшееся в условиях «разгула демократии» под сильным нажимом «снизу», не могло ограничивать бюджетные расходы, а, наоборот, вынуждено было их наращивать. Поскольку доходы бюджета при этом постоянно снижались (из-за падения цен на нефть, антиалкогольной кампании, уменьшения отчислений предприятий), с устрашающей быстротой увеличивался дефицит госбюджета (в 1989 году он скачком вырос вдвое). «Заткнуть» эту бюджетную «дыру» не удавалось никакими заграничными займами: лавинообразный рост внешних долгов страны происходил одновременно с включением денежного «печатного станка» на полную мощность.
Результатом всего этого было страшное обесценение денег и повсеместное опустошение магазинных прилавков.
С каждым годом население страны все больше времени проводило в очередях за самым необходимым. Слово «купить» практически полностью ушло из разговорного языка – товар можно было только «достать» или «поймать».
В мирное время, при стабильно работающем производстве (сколько-нибудь существенного сокращения производства до конца «перестройки» не было) вся страна постепенно перешла на карточки!
Люди теряли человеческий облик в магазинной давке, возмущались: куда же все вдруг пропало?! И только в этих испытаниях в массовое сознание постепенно пробивали себе дорогу идеи свободного рынка и частной собственности.
Вопрос о переходе к рыночной экономике впервые поставили, когда монополия КПСС на власть зашаталась – после выборов народных депутатов СССР. Однако начать реально такую реформу оказалось невозможно до завершения «перестройки» в политической сфере – т. е. до полного разрушения тоталитарных структур власти. Пока же для восстановления равновесия между спросом и предложением предлагались «старые добрые» способы – «замораживание» зарплаты, повышение цен на товары народного потребления, конфискация у населения «лишних» денег. Однако для того, чтобы подобные меры принесли ощутимый эффект, нужен был жесткий диктаторский режим типа сталинского – в обстановке политической свободы открытый грабеж населения государством не прошел бы.
Глава правительства Николай Рыжков летом 1990 года не нашел ничего лучшего как вынести свою программу, включавшую повышение цен, на рассмотрение и утверждение народных депутатов (депутаты, естественно, не захотели брать на себя ответственность за такие непопулярные меры, а граждане, узнавшие о планах правительства, срочно расхватали с магазинных прилавков остатки товаров). Новый премьер Валентин Павлов также решился лишь на полумеры – обмен 50- и 100-рублевых купюр, частичное и временное «замораживание» вкладов на сберкнижках, 2–3-кратное повышение государственных цен на потребительские товары. Результатов не было никаких: в магазинах поставили новые ценники на по прежнему пустые прилавки.
Развал экономики использовали как козырь в политической борьбе и старые номенклатурные хозяева страны, и новые руководители союзных республик: первые доказывали, что «перестройка» потерпела крах, что «вся эта демократия» ведет лишь к хаосу и голоду, а вторые взваливали всю вину за сложившееся положение на центральное правительство и требовали суверенитета. И те, и другие при этом вносили свой посильный вклад в дальнейшее ухудшение ситуации: политическая борьба привела к тому, что экономика стала практически неуправляемой. Никакие решения центра предприятиями не выполнялись, товары до магазинов не доходили, при работающем производстве над страной нависла угроза голода…
Агония КПСС. В июле 1990 года состоялся ХХVIII (и последний) съезд КПСС. Ни о каких единогласных голосованиях здесь речи уже не было: съезд проходил исключительно бурно. Номенклатура, которая чувствовала себя обманутой и преданной, не желала больше принимать навязанной ей красивой роли «инициатора перестройки» и пыталась привлечь Горбачева к ответу за «развал партии и страны». Сторонники демократических реформ (Борис Ельцин, недавно избранные мэрами Москвы и Ленинграда Гавриил Попов и Анатолий Собчак) заявили о своем выходе из КПСС. Исход дела в пользу Горбачева решило «болото», придерживавшееся принципа «генсеку виднее» (тем более, что этот генсек являлся еще и президентом).
Самым серьезным, реальным итогом съезда можно назвать реформу Политбюро: по предложению Горбачева новое Политбюро составили из первых секретарей компартий союзных республик, которые бывали в Москве наездами и больше заботились о сохранении своего личного влияния у себя «дома» – высший орган политической власти после этого потерял свою централизующую силу.
Союзная номенклатура была загнана в угол, но сдаваться не собиралась – последним ее козырем оставался фактический контроль над «силовыми» структурами, годными уже только для государственного переворота.
Перед решающей схваткой. К осени 1990 года ситуация в стране буквально повисла на волоске. В политической борьбе все маски были сброшены – противоборствующие стороны сошлись в открытой схватке. Примиряющий лозунг «гуманного, демократического социализма» уже никого не обманывал. Вопрос стоял ребром: либо полное разрушение тоталитарной империи и переход от «демократизации» к полноценной демократии, от «совершенствования плановой экономики» к частной собственности и рынку – либо возврат назад и «наведение порядка» диктаторскими методами.
Время, казалось, работало на будущих диктаторов: все больше людей, устав от хаоса, готовы были согласиться на «наведение порядка» любой ценой и с ностальгией вспоминали спокойные времена «социализма». «Агрессивно-послушное большинство» союзного парламента становилось все более агрессивным и все менее послушным: все чаще раздавались требования чрезвычайных, силовых мер для предотвращения распада империи.
Их противники, имея в своих руках республиканские и местные демократически избранные органы власти, могли опираться на закон и на поддержку массовых демократических движений, требовавших немедленно отстранить КПСС от власти и решительно довести «перестройку» до ее логического конца.
Накал политического противоборства достиг такой остроты, что многие опасались начала гражданской войны. Фактически страна балансировала на краю пропасти.
«С кем Вы, Михаил Сергеевич?». Михаил Горбачев, по-прежнему совмещавший всё менее совместимые посты генерального секретаря ЦК КПСС и президента СССР, оказался в это время под жесточайшим давлением с обеих сторон.
Сторонники демократических реформ, объединившиеся вокруг нового руководства РСФСР во главе с Ельциным, собирали многотысячные митинги под лозунгами «Долой КПСС!», «Диктатура не пройдет!» и т. п.
Давление с другой стороны было не столь громким, но зато гораздо более «весомым». На пленумах ЦК раздавались требования снять Горбачева с поста генсека. И демократы, и их противники хотели, чтобы президент сделал, наконец, решительный выбор: или отказался от «перестройки», обернувшейся вовсе не способом «обновления социализма», а его разрушением, – или покинул пост главы партии, вовсе не желавшей «перестраиваться» так далеко.
Летом 1990 года по заказу Ельцина и российского правительства группа экономистов представила программу перехода СССР к рыночной экономике (Программа «500 дней»). Она стала первой экономической разработкой, предполагавшей достаточно быструю приватизацию госпредприятий и освобождение цен от государственного контроля – т. е. фактически ликвидацию «социализма». Трудно сказать, насколько успешно можно было ее выполнить (авторы программы отводили главную роль сильной союзной власти, которой в стране уже не существовало). Однако принятие этой программы означало бы переход от обреченных попыток «совершенствования социалистической экономики» к реальной реформе. Программа была рассчитана на весь СССР, и поэтому судьба ее зависела от союзного руководства. Михаил Горбачев поначалу отнесся к ней с энтузиазмом, но в решающий момент – на Съезде народных депутатов СССР – вдруг отказался ее поддержать…
Каковы бы ни были причины этой резкой перемены, после истории с программой «500 дней» у многих демократов сложилось впечатление, что Горбачев свой выбор сделал и окончательно пошел на поводу у «товарищей» из ЦК КПСС. Тревожные симптомы следовали один за другим. Осенью 1990 года президент получил от союзных депутатов «чрезвычайные полномочия». Ушли в отставку со своих постов ближайшие соратники Горбачева по «перестройке» – Александр Яковлев и министр иностранных дел Эдуард Шеварднадзе (причем последний на всю страну объявил, что уходит в знак протеста против готовящейся диктатуры). На пост вице-президента Горбачев с большим трудом и никому не понятным тогда упорством «протащил» явно не отличавшегося государственными талантами партаппаратчика Геннадия Янаева. Наконец, произошли странные и зловещие события в Вильнюсе в январе 1991 года – в город вошли войска, штурмовавшие и захватившие телецентр, были жертвы…
После этого по стране прокатились массовые митинги и забастовки с требованием отставки Горбачева и всего союзного правительства, с таким же требованием выступил по телевидению Ельцин. Впервые требования непримиримых врагов совпали – их ненависть друг к другу обратилась на разделявший их «буфер».
Ново-огаревские переговоры. В апреле 1991 года Михаил Горбачев пригласил в свою подмосковную резиденцию Ново-Огарево Бориса Ельцина, Нурсултана Назарбаева и других лидеров республик, в принципе согласных остаться в едином Союзе. Собравшейся «девятке» он предложил обсудить проект нового союзного договора.
Согласие было достигнуто легко, потому что предварительных условий Горбачев практически не ставил, республикам предоставлялось право самостоятельно определить условия своего вхождения в Союз. Кроме того, проект предусматривал, что после подписания договора старые союзные органы власти будут распущены, пройдут новые президентские и парламентские выборы по новой конституции.
Подписание нового союзного договора назначили на 20 августа 1991 года. Если бы оно состоялось, это означало бы законный, цивилизованный «роспуск» империи и создание добровольного союза девяти республик (всех, кроме Прибалтики и Закавказья) и завершение политической реформы мирным путем. Но в конце июля Михаил Горбачев совершил свой самый загадочный поступок – он уехал в отпуск…
«Августовский путч». Утром 19 августа 1991 года включившие радио граждане были буквально ошарашены. По всем программам торжественно-озабоченным тоном зачитывалось сообщение о том, что президент Горбачев серьезно заболел и в ближайшее время не сможет выполнять своих обязанностей главы государства, что в стране вводится чрезвычайное положение и вся власть передается органу с труднопроизносимым названием «ГКЧП» (Государственный комитет по чрезвычайному положению). Успевшие привыкнуть к «гласности» люди спешили включить телевизор, но и там их ждало все то же самое: знакомые дикторы с «деревянными» лицами, стараясь не смотреть в камеру, вновь и вновь повторяли обращение неведомого «ГКЧП», а в перерывах раз за разом показывали классический балет «Лебединое озеро» (трижды за этот день!). В Москву с грохотом и вонью втягивались танковые колонны, боевые машины занимали ключевые пункты города.
Это был государственный переворот, но его участники очень надеялись придать делу законный вид. В состав ГКЧП вошла (или поддержала его) вся «верхушка» союзного руководства: премьер-министр, председатель КГБ, министр обороны, министр внутренних дел, секретари ЦК КПСС, председатель Верховного Совета СССР. «Исполняющим обязанности президента» стал вице-президент Янаев, он-то и подписал указ о введении чрезвычайного положения.
И все это было бы совершенно законно – если бы Горбачев и вправду был болен. Но Горбачев находился в добром здравии (получив от него категорический отказ возглавить ГКЧП, заговорщики посадили его под «домашний арест» на президентской даче в Крыму, лишив связи с внешним миром).
Поначалу план «гекачепистов», казалось, разыгрывался как по нотам. Массовых вспышек народного возмущения не происходило, предприятия работали, армия и милиция повиновались приказам. В поддержку чрезвычайного положения высказались руководители всех основных союзных министерств. Приказы из центра по налаженным каналам уходили «на места» и выполнялись – создавались местные «комитеты по чрезвычайному положению», вводилась цензура, проводились «собрания трудящихся» в поддержку ГКЧП… Структуры тоталитарной империи, ослабленные и деморализованные «перестройкой», встряхнулись и заработали в полную силу – то, что по нынешним понятиям пришлось назвать «чрезвычайным положением», для них всегда было нормальным режимом работы.
И все же в августе 1991 года тихий, «законный» переворот оказался уже невозможен. К этому времени в России была полностью сформирована система демократически избранных органов власти – от местных советов до Съезда народных депутатов РСФСР. За два месяца до переворота всенародным голосованием был избран президент России Борис Ельцин. Подчиняться ГКЧП эти новые российские власти не собирались, а насильственная расправа с ними уж никак не вписывалась в рамки хоть какой-нибудь «законности» и вызвала бы очень резкую реакцию как в самой России, так и за рубежом. На это заговорщики не пошли – и российское руководство во главе с Ельциным с первых же часов путча стало центром сопротивления их власти.
Утром 19 августа Ельцин объявил случившееся государственным переворотом и призвал граждан России не подчиняться самозванным «правителям». Вокруг «Белого дома» (здания правительства РСФСР [РСФСР – Российская Советская Социалистическая Республика – так называлась Россия в составе СССР]) собрались тысячи людей, готовых защищать законную власть от возможных покушений со стороны ГКЧП. Правительство Москвы помогало, чем могло – улицы, ведущие к «Белому дому», перегораживались троллейбусами и грузовиками, строились баррикады, печатались и расклеивались листовки с обращениями Ельцина…
В этой ситуации утвердить свою власть в стране «гекачеписты» могли только через кровопролитие и жестокий террор. К этому они, к счастью, оказались не готовы. Войска, стянутые в Москву, так и не были по-настоящему пущены в ход, а утром 21 августа министр обороны Язов отдал приказ вывести их из столицы.
Попытка переворота провалилась. Члены ГКЧП были арестованы, а Горбачева вернули в Москву. Однако, это была уже не та Москва, из которой он уезжал в отпуск три недели назад.
За три августовских дня российское правительство стало реальной верховной властью в России. Союзные структуры, скомпрометированные участием в провалившемся перевороте, были полностью парализованы. Борис Ельцин издал указ о приостановлении деятельности КПСС и передаче ее имущества государству. По всей стране закрывались райкомы, горкомы, обкомы, прекратили свое существование еще недавно могущественные ЦК и Политбюро. 25 августа сложил с себя полномочия генерального секретаря этой партии Михаил Горбачев.
«Перестройка» завершилась. «Коммунистическая» страница нашей истории – занявшая без малого три четверти века – была перевернута.
Конец «холодной войны». Влияние «перестройки» ощущалось далеко за пределами СССР – за эти несколько лет многое заметно изменилось во всем мире. В ходе своих визитов в соседние соцстраны в 1989 году Михаил Горбачев настоятельно советовал их руководителям поскорее демократизироваться самим, пока массовая волна «снизу» не смела их режимы. При этом он предупреждал восточноевропейских коммунистов, чтобы они больше не надеялись на советские танки в отношениях с собственным населением – ни «Будапешт-56», ни «Прага-68» не повторятся. В партийных и правительственных резиденциях советского лидера принимали холодно и настороженно (в ГДР к этому времени даже запретили продажу советских газет), но на улицах городов население встречало Горбачева с искренним восторгом.
Держать массу советских войск на рубежах западного мира не имело теперь ни военного, ни политического смысла – с 1989 года начался их постепенный вывод из Центральной и Восточной Европы. Вскоре после этого произошло неизбежное – коммунистические режимы развалились один за другим. У каждой из бывших «социалистических» стран началась новая – своя собственная – история.
[Когда через несколько лет отставного уже президента публично спросили: «Как вам, Михаил Сергеевич, спится по ночам после того, как вы отдали Восточную Европу?», Горбачев ответил: «Спится нормально. А кому я ее «отдал»?! Польшу – полякам, Венгрию – венграм, Германию – немцам»…]
СССР и США, выйдя из состояния «холодной войны», перестали поддерживать (оружием и деньгами) противоборствующие стороны разнообразных конфликтов в «третьем мире», и некоторые из них стали «затухать» [с 1987 по 2000 год продажа оружия на мировом рынке сократилась почти в 2,5 раза]. Казалось, стремление к мирному решению проблем растет одновременно во всех уголках земного шара.
Читать дальше:
Здесь мы вступаем на чрезвычайно зыбкую почву. События, о которых только что рассказано, не просто еще сравнительно недавние. Они оказали на сегодняшнюю нашу жизнь влияние столь огромное и столь разноречивое, что серьезно, объективно изучать их очень трудно, практически невозможно. Они до сих пор являются «болевой точкой» для российского сознания — и долго еще таковой будут.
Почва эта зыбка еще и потому, что события тех лет очень зависели от субъективных мотивов, целей и действий одного человека, без которого ничего этого тогда могло и не случиться.
В самом деле, исход соревнования двух «систем» ни у кого сомнений уже не вызывал, СССР, завязший в афганской авантюре, оказался в технологической изоляции от западных стран, «нефтедолларов» из-за быстрого падения цен на энергоносители становилось все меньше, собственное же хозяйство оставалось все также же неэффективным, безумно расточительным и уже не поддающимся никакому «совершенствованию».
Советское общество уже вполне дозрело до какой-то решительной переделки, но продолжало по инерции существовать по-прежнему. Потому что общество изменяется не само по себе — его изменяют люди. А с этим у СССР были большие проблемы. Уже третье-четвертое поколение воспитанных коммунистами и наученное всем строем жизни советских людей даже не представляло себе, что можно жить как-то иначе, а порядки гораздо более успешных стран воспринимались исключительно, как вражеские. Бесчисленные чистки населения от любых активных элементов сделали свое дело — изнутри этому обществу действительно ничто не грозило. Правящий коммунистический слой чувствовал себя в полной безопасности.
Последние попытки хоть что-то улучшить были уже давно и нужных результатов не дали. А последующие пятнадцать-двадцать лет сидения на «нефтяной игле» приучили правящий слой думать, что «все как-нибудь само образуется». Но за многолетнее бездействие, за убеждение, что «на наш век хватит» настала пора платить. Необходимость резко повышать военные расходы в сочетании с падением нефтяных цен заставили старцев из Политбюро выдвинуть в Генеральные секретари человека в стране малоизвестного, по их понятиям, молодого и выходца из региона (Ставрополье), либерализмом никогда не отличавшегося. Его они надеялись жестко контролировать.
И вот тут, как выяснилось чуть позже, они очень серьезно «прокололись». Михаил Сергеевич Горбачев оказался гораздо более искушенным в «подковерной» борьбе, чем всё их «коллективное руководство» вместе взятое, и скоро один за другим на пенсию были выброшены люди, до того уходившие со своих постов лишь под траурные марши на орудийном лафете — в Кремлевскую стену.
С поколением руководителей, пришедшим им на замену, Горбачев начал активно испытывать буквально все рецепты «лечения» тоталитарной экономики, которые раньше безрезультатно предлагали «советские» академики. И — никаких результатов, все они с треском провалились. «Совершенствовать» этот тип хозяйствования было бесполезно и бессмысленно.
И тут выяснилось, что настоящие планы у Генерального секретаря были несколько иные — ликвидировать тоталитарную систему в стране полностью, срыть ее до основания. В окружавшем его руководстве было лишь несколько его единомышленников (которые сами не слишком понимали смысла и целей действий своего руководителя) Надо было «расшевелить» саму страну, — там, за пределами государственной машины найти себе союзников. И Горбачев начал сначала осторожно расшатывать, а затем и вынимать «кирпичики» из монолитной стены советской системы — «борьба с пьянством», «общечеловеческие ценности», «гласность», а затем и выборы в органы власти из нескольких кандидатов… И страна забурлила.
И только тут до «товарищей по партии» стало доходить что стоит за успокаивающими пространными речами этого главы КПСС. Но было уже поздно — Горбачев нанес решающий удар по всевластию своей партии. Собравшиеся со всех концов страны делегаты партийного съезда проголосовали за его предложение о том, что доныне всесильное Политбюро будет состоять из партийных руководителей всех пятнадцати республик (которые поняли, что сейчас уже «каждый сам за себя») — и единый центр власти Советского Союза, всей советской системы просто исчез, испарился…
Оставалась последняя надежда — что Горбачев, как «истинный политик», сделает все, чтобы удержать в своих руках власть. Но когда члены Комитета по чрезвычайному положению, которые уже фактически взяли власть в стране, пришли к нему с просьбой возглавить эту опирающуюся на вооруженную силу власть, он их попросту выгнал. Оказалось, что высшая власть в тоталитарном государстве нужна была ему лишь для того, чтобы развалить ее. Этого простить Горбачеву не могут до сих пор.
Если есть желание, можно посмотреть этот текст, написанный одним из авторов сего Курса к горбачевскому юбилею: “Феномен Горбачева”. Чтение, впрочем, необязательное, — отзывов противоположного толка гораздо больше и они широко доступны в интернете.
Вообще же, «перестройка» была временем необыкновенным — периодом раскрепощения и единения с миром, голода и надежды. Тот, кто жил в те годы, вряд ли их когда-нибудь забудет — вне зависимости от того, как он к ним тогда относился. Далеко не все ожидания тех лет сбылись. Но вряд ли стоит винить в этом тогдашних «прорабов перестройки», как их тогда называли. Дальше мы уже сами взялись обустраивать свою жизнь, а что из этого вышло — это уже совсем другая история…
ПЛЕЙБОЙ — богатенький мужчина, которому вряд ли пришлось сильно горбатиться ради своего богатства; к деньгам поэтому относится легко (и к своим, и к чужим), ценит в них возможности пожить весело, беззаботно и с комфортом; легко относится ко всем своим проблемам (а, тем более, к чужим); считает себя ценителем красоты, любит все радости жизни, но особенное пристрастие питает к женскому полу — эдакий живчик. В прежние времена такого бы назвали БОНВИВАН.
Письмо первое
Да приидет Царствие Твое
(Евангелие от Матфея, VI, 10).
Сударыня,
(…)
Одна из наиболее печальных черт нашей своеобразной цивилизации заключается в том, что мы еще только открываем истины, давно уже ставшие избитыми в других местах и даже среди народов, во многом далеко отставших от нас.
Это происходит оттого, что мы никогда не шли об руку с прочими народами; мы не принадлежим ни к одному из великих семейств человеческого рода; мы не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку, и у нас нет традиций ни того, ни другого. Стоя как бы вне времени, мы не были затронуты всемирным воспитанием человеческого рода.
Эта дивная связь человеческих идей на протяжении веков, эта история человеческого духа, вознесшие его до той высоты, на которой он стоит теперь во всем остальном мире, — не оказали на нас никакого влияния. То, что в других странах уже давно составляет самую основу общежития, для нас — только теория и умозрение. И вот пример: вы, обладающая столь счастливой организацией для восприятия всего, что есть истинного и доброго в мире, вы, кому самой природой предназначено узнать все, что дает самые сладкие и самые чистые радости душе, — говоря откровенно, чего вы достигли при всех этих преимуществах? Вам приходится думать даже не о том, чем наполнить жизнь, а чем наполнить день. Самые условия, составляющие в других странах необходимую рамку жизни, в которой так естественно размещаются все события дня и без чего так же невозможно здоровое нравственное существование, как здоровая физическая жизнь без свежего воздуха, — у вас их нет и в помине. Вы понимаете, что речь идет еще вовсе не о моральных принципах и не о философских истинах, а просто о благоустроенной жизни, о тех привычках и навыках сознания, которые сообщают непринужденность уму и вносят правильность в душевную жизнь человека.
Взгляните вокруг себя. Не кажется ли, что всем нам не сидится на месте. Мы все имеем вид путешественников. Ни у кого нет определенной сферы существования, ни для чего не выработано хороших привычек, ни для чего нет правил; нет даже домашнего очага; нет ничего, что привязывало бы, что пробуждало бы в вас симпатию или любовь, ничего прочного, ничего постоянного; все протекает, все уходит, не оставляя следа ни вне, ни внутри вас. В своих домах мы как будто на постое, в семье имеем вид чужестранцев, в городах кажемся кочевниками, и даже больше, нежели те кочевники, которые пасут свои стада в наших степях, ибо они сильнее привязаны к своим пустыням, чем мы к нашим городам. И не думайте, пожалуйста, что предмет, о котором идет речь, не важен. Мы и без того обижены судьбою, — не станем же прибавлять к прочим нашим бедам ложного представления о самих себе, не будем притязать на чисто духовную жизнь; научимся жить разумно в эмпирической действительности. Но сперва поговорим еще немного о нашей стране; мы не выйдем из рамок нашей темы. Без этого вступления вы не поняли бы того, что я имею вам сказать.
У каждого народа бывает период бурного волнения, страстного беспокойства, деятельности необдуманной и бесцельной. В это время люди становятся скитальцами в мире, физически и духовно. Это — эпоха сильных ощущений, широких замыслов, великих страстей народных. Народы мечутся тогда возбужденно, без видимой причины, но не без пользы для грядущих поколений. Через такой период прошли все общества. Ему обязаны они самыми яркими своими воспоминаниями, героическим элементом своей истории, своей поэзией, всеми наиболее сильными и плодотворными своими идеями; это — необходимая основа всякого общества. Иначе в памяти народов не было бы ничего, чем они могли бы дорожить, что могли бы любить; они были бы привязаны лишь к праху земли, на которой живут. Этот увлекательный фазис в истории народов есть их юность, эпоха, в которую их способности развиваются всего сильнее и память о которой составляет радость и поучение их зрелого возраста.
У нас ничего этого нет. Сначала — дикое варварство, потом грубое невежество, затем свирепое и унизительное чужеземное владычество, дух которого позднее унаследовала наша национальная власть, — такова печальная история нашей юности. Этого периода бурной деятельности, кипучей игры духовных сил народных, у нас не было совсем. Эпоха нашей социальной жизни, соответствующая этому возрасту, была заполнена тусклым и мрачным существованием, лишенным силы и энергии, которое ничто не оживляло, кроме злодеяний, ничто не смягчало, кроме рабства. Ни пленительных воспоминаний, ни грациозных образов в памяти народа, ни мощных поучений в его предании. Окиньте взглядом все прожитые нами века, все занимаемое нами пространство, — вы не найдете ни одного привлекательного воспоминания, ни одного почтенного памятника, который властно говорил бы вам о прошлом, который воссоздавал бы его пред вами живо и картинно. Мы живем одним настоящим в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя. И если мы иногда волнуемся, то отнюдь не в надежде или расчете на какое-нибудь общее благо, а из детского легкомыслия, с каким ребенок силится встать и протягивает руки к погремушке, которую показывает ему няня.
Истинное развитие человека в обществе еще не началось для народа, если жизнь его не сделалась более благоустроенной, более легкой и приятной, чем в неустойчивых условиях первобытной эпохи. Как вы хотите, чтобы семена добра созревали в каком-нибудь обществе, пока оно еще колеблется без убеждений и правил даже в отношении повседневных дел и жизнь еще совершенно не упорядочена? (…)
Годы ранней юности, проведенные нами в тупой неподвижности, не оставили никакого следа в нашей душе, и у нас нет ничего индивидуального, на что могла бы опереться наша мысль; но, обособленные странной судьбой от всемирного движения человечества, мы также ничего не восприняли и из преемственных идей человеческого рода. Между тем именно на этих идеях основывается жизнь народов; из этих идей вытекает их будущее, исходит их нравственное развитие.
Если мы хотим занять положение, подобное положению других цивилизованных народов, мы должны некоторым образом повторить у себя все воспитание человеческого рода. Для этого к нашим услугам история народов и перед нами плоды движения веков. Конечно, эта задача трудна и, быть может, в пределах одной человеческой жизни не исчерпать этот обширный предмет; но прежде всего надо узнать, в чем дело, что представляет собою это воспитание человеческого рода и каково место, которое мы занимаем в общем строе.
Народы живут лишь могучими впечатлениями, которые оставляют в их душе протекшие века, да общением с другими народами. Вот почему каждый отдельный человек проникнут сознанием своей связи со всем человечеством.
Что такое жизнь человека, говорит Цицерон, если память о прошлых событиях не связывает настоящего с прошедшим! Мы же, придя в мир, подобно незаконным детям, без наследства, без связи с людьми, жившими на земле раньше нас, мы не храним в наших сердцах ничего из тех уроков, которые предшествовали нашему собственному существованию. Каждому из нас приходится самому связывать порванную нить родства. Что у других народов обратилось в привычку, в инстинкт, то нам приходится вбивать в головы ударами молота. Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня; мы, так сказать, чужды самим себе. Мы так странно движемся во времени, что с каждым нашим шагом вперед прошедший миг исчезает для нас безвозвратно. Это — естественный результат культуры, всецело основанной на заимствовании и подражании. У нас совершенно нет внутреннего развития, естественного прогресса; каждая новая идея бесследно вытесняет старые, потому что она не вытекает из них, а является к нам Бог весть откуда. Так как мы воспринимаем всегда лишь готовые идеи, то в нашем мозгу не образуются те неизгладимые борозды, которые последовательное развитие проводит в умах и которые составляют их силу. Мы растем, но не созреваем; движемся вперед, но по кривой линии, то есть по такой, которая не ведет к цели. Мы подобны тем детям, которых не приучили мыслить самостоятельно; в период зрелости у них не оказывается ничего своего; все их знание — в их внешнем быте, вся их душа — вне их. Именно таковы мы.
Народы — в такой же мере существа нравственные, как и отдельные личности. Их воспитывают века, как отдельных людей воспитывают годы. Но мы, можно сказать, некоторым образом — народ исключительный. Мы принадлежим к числу тех наций, которые как бы не входят в состав человечества, а существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь важный урок. Наставление, которое мы призваны преподать, конечно, не будет потеряно; но кто может сказать, когда мы обретем себя среди человечества и сколько бед суждено нам испытать, прежде чем исполнится наше предназначение?
Все народы Европы имеют общую физиономию, некоторое семейное сходство. Вопреки огульному разделению их на латинскую и тевтонскую расы, на южан и северян — все же есть общая связь, соединяющая их всех в одно целое и хорошо видимая всякому, кто поглубже вник в их общую историю.
Вы знаете, что еще сравнительно недавно вся Европа называлась христианским миром, и это выражение употреблялось в публичном праве. Кроме общего характера, у каждого из этих народов есть еще свой частный характер, но и тот, и другой всецело сотканы из истории и традиции. Они составляют преемственное идейное наследие этих народов. Каждый отдельный человек пользуется там своею долей этого наследства, без труда и чрезмерных усилий он набирает себе в жизни запас этих знаний и навыков и извлекает из них свою пользу. Сравните сами и скажите, много ли мы находим у себя в повседневном обиходе элементарных идей, которыми могли бы с грехом пополам руководствоваться в жизни? И заметьте, здесь идет речь не о приобретении знаний и не о чтении, не о чем-либо касающемся литературы или науки, а просто о взаимном общении умов, о тех идеях, которые овладевают ребенком в колыбели, окружают его среди детских игр и передаются ему с ласкою матери, которые в виде различных чувств проникают до мозга его костей вместе с воздухом, которым дышит, и создают его нравственное существо еще раньше, чем он вступает в свет и общество. Хотите ли знать, что это за идеи? Это — идеи долга, справедливости, права, порядка. Они родились из самых событий, образовавших там общество, они входят необходимым элементом в социальный уклад этих стран.
Это и составляет атмосферу Запада; это — больше, нежели история, больше чем психология; это — физиология европейского человека. Чем вы замените это у нас? (…)
Вследствие этого вы найдете, что всем нам недостает известной уверенности, умственной методичности, логики. (…) Наши лучшие умы страдают чем-то большим, нежели простая неосновательность. Лучшие идеи, за отсутствием связи или последовательности, замирают в нашем мозгу и превращаются в бесплодные призраки. Человеку свойственно теряться, когда он не находит способа привести себя в связь с тем, что ему предшествует, и с тем, что за ним следует. Он лишается тогда всякой твердости, всякой уверенности. Не руководимый чувством непрерывности, он видит себя заблудившимся в мире. Такие растерянные люди встречаются во всех странах; у нас же это общая черта.
…Это — беспечность жизни, лишенной опыта и предвидения, не принимающей в расчет ничего, кроме мимолетного существования особи, оторванной от рода, жизни, не дорожащей ни честью, ни успехами какой-либо системы идей и интересов… В наших головах нет решительно ничего общего; все в них индивидуально и все шатко и неполно. Мне кажется даже, что в нашем взгляде есть какая-то странная неопределенность, что-то холодное и неуверенное, напоминающее отчасти физиономию тех народов, которые стоят на низших ступенях социальной лестницы. В чужих странах, особенно на юге, где физиономии так выразительны и так оживленны, не раз, сравнивая лица моих соотечественников с лицами туземцев, я поражался этой немотой наших лиц.
Иностранцы ставят нам в достоинство своего рода бесшабашную отвагу, встречаемую особенно в низших слоях народа; но, имея возможность наблюдать лишь отдельные проявления национального характера, они не в состоянии судить о целом. Они не видят, что то же самое начало, благодаря которому мы иногда бываем так отважны, делает нас всегда неспособными к углублению и настойчивости; они не видят, что этому равнодушию к житейским опасностям соответствует в нас такое же полное равнодушие к добру и злу, к истине и ко лжи и что именно это лишает нас всех могущественных стимулов, которые толкают людей по пути совершенствования; они не видят, что именно благодаря этой беспечной отваге даже высшие классы у нас, к прискорбию, не свободны от тех пороков, которые в других странах свойственны лишь самым низшим слоям общества; они не видят, наконец, что, если нам присущи кое-какие добродетели молодых и малоразвитых народов, мы уже не обладаем зато ни одним из достоинств, отличающих народы зрелые и высококультурные.
Я не хочу сказать, конечно, что у нас одни пороки, а у европейских народов одни добродетели; избави Бог! Но я говорю, что для правильного суждения о народах следует изучать общий дух, составляющий их жизненное начало…
Народные массы подчинены известным силам, стоящим вверху общества. Они не думают сами; среди них есть известное число мыслителей, которые думают за них, сообщают импульс коллективному разуму народа и двигают его вперед. Между тем как небольшая группа людей мыслит, остальные чувствуют, и в итоге совершается общее движение. (…)
И вот я спрашиваю вас, где наши мудрецы, наши мыслители? Кто когда-либо мыслил за нас, кто теперь за нас мыслит? А ведь, стоя между двумя главными частями мира, Востоком и Западом, упираясь одним локтем в Китай, другим в Германию, мы должны были бы соединить в себе оба великих начала духовной природы: воображение и рассудок, и совмещать в нашей цивилизации историю всего земного шара. Но не такова роль, определенная нам Провидением. Больше того: оно как бы совсем не было озабочено нашей судьбой. Исключив нас из своего благодетельного действия на человеческий разум, оно всецело предоставило нас самим себе, отказалось как бы то ни было вмешиваться в наши дела, не пожелало ничему нас научить.
Исторический опыт для нас не существует; поколения и века протекли без пользы для нас. Глядя на нас, можно было бы сказать, что общий закон человечества отменен по отношению к нам. Одинокие в мире, мы ничего не дали миру, ничему не научили его; мы не внесли ни одной идеи в массу идей человеческих, ничем не содействовали прогрессу человеческого разума, и все, что нам досталось от этого прогресса, мы исказили. С первой минуты нашего общественного существования мы ничего не сделали для общего блага людей; ни одна полезная мысль не родилась на бесплодной почве нашей родины; ни одна великая истина не вышла из нашей среды; мы не дали себе труда ничего выдумать сами, а из того, что выдумали другие, мы перенимали только обманчивую внешность и бесполезную роскошь.
(…) Если бы дикие орды, возмутившие мир, не прошли по стране, в которой мы живем, прежде чем устремиться на Запад, нам едва ли была бы отведена страница во всемирной истории. Если бы мы не раскинулись от Берингова пролива до Одера, нас и не заметили бы. (…). В нашей крови есть нечто, враждебное всякому истинному прогрессу. И в общем мы жили и продолжаем жить лишь для того, чтобы послужить каким-то важным уроком для отдаленных поколений, которые сумеют его понять; ныне же мы, во всяком случае, составляем пробел в нравственном миропорядке. Я не могу вдоволь надивиться этой необычайной пустоте и обособленности нашего социального существования. Разумеется, в этом повинен отчасти неисповедимый рок, но, как и во всем, что совершается в нравственном мире, здесь виноват отчасти и сам человек. Обратимся еще раз к истории: она — ключ к пониманию народов.
Что мы делали о ту пору, когда в борьбе энергического варварства северных народов с высокою мыслью христианства складывалась храмина современной цивилизации? Повинуясь нашей злой судьбе, мы обратились к жалкой, глубоко презираемой этими народами Византии за тем нравственным уставом, который должен был лечь в основу нашего воспитания. Волею одного честолюбца [константинопольский патриарх] эта семья народов только что была отторгнута от всемирного братства, и мы восприняли, следовательно, идею, искаженную человеческою страстью. В Европе все одушевлял тогда животворный принцип единства. Все исходило из него и все сводилось к нему. Все умственное движение той эпохи было направлено на объединение человеческого мышления; все побуждения коренились в той властной потребности отыскать всемирную идею, которая является гением-вдохновителем нового времени. Непричастные этому чудотворному началу, мы сделались жертвою завоевания. Когда же мы свергли чужеземное иго и только наша оторванность от общей семьи мешала нам воспользоваться идеями, возникшими за это время у наших западных братьев, мы подпали еще более жестокому рабству, освященному притом фактом нашего освобождения.
Сколько ярких лучей уже озаряло тогда Европу, на вид окутанную мраком! Большая часть знаний, которыми теперь гордится человек, уже была предугадана отдельными умами; характер общества уже определился, а, приобщившись к миру языческой древности, христианские народы обрели и те формы прекрасного, которых им еще недоставало. Мы же замкнулись в нашем религиозном обособлении, и ничто из происходившего в Европе не достигало до нас. Нам не было никакого дела до великой мировой работы. Высокие качества, которые религия принесла в дар новым народам и которые в глазах здравого разума настолько же возвышают их над древними народами, насколько последние стояли выше готтентотов и лапландцев; эти новые силы, которыми она обогатила человеческий ум; эти нравы, которые, вследствие подчинения безоружной власти, сделались столь же мягкими, как раньше были грубы,— все это нас совершенно миновало.
В то время, как христианский мир величественно шествовал по пути, предначертанному его божественным основателем, увлекая за собою поколения,— мы, хотя и носили имя христиан, не двигались с места. Весь мир перестраивался заново, а у нас ничего не созидалось; мы по-прежнему прозябали, забившись в свои лачуги, сложенные из бревен и соломы. Словом, новые судьбы человеческого рода совершались помимо нас. Хотя мы и назывались христианами, плод христианства для нас не созревал.
Спрашиваю вас, не наивно ли предполагать, как это обыкновенно делают у нас, что этот прогресс европейских народов, совершившийся столь медленно и под прямым и очевидным воздействием единой нравственной силы, мы можем усвоить сразу, не дав себе даже труда узнать, каким образом он осуществлялся?
(…)
Все европейские народы шли вперед в веках рука об руку; как бы ни старались они теперь разойтись каждый своей дорогой,— они беспрестанно сходятся на одном и том же пути. Чтобы убедиться в том, как родственно развитие этих народов, нет надобности изучать историю; прочтите только Тасса, и вы увидите их все простертыми ниц у подножья Иерусалимских стен. Вспомните, что в течение пятнадцати веков у них был один язык для обращения к Богу, одна духовная власть и одно убеждение. Подумайте, что в течение пятнадцати веков, каждый год в один и тот же день, в один и тот же час, они в одних и тех словах возносили свой голос к верховному существу, прославляя его за величайшее из его благодеяний. Дивное созвучие, в тысячу крат более величественное, чем все гармонии физического мира! (…) …Ясно, что нам следует прежде всего оживить свою веру всеми возможными способами и дать себе истинно христианский импульс, так как на Западе все создано христианством. Вот что я подразумевал, говоря, что мы должны от начала повторить на себе все воспитание человеческого рода.
Вся история новейшего общества совершается на почве мнений; таким образом, она представляет собою настоящее воспитание. Утвержденное изначала на этой основе, общество шло вперед лишь силою мысли. Интересы всегда следовали там за идеями, а не предшествовали им; убеждения никогда не возникали там из интересов, а всегда интересы рождались из убеждений. Все политические революции были там, в сущности, духовными революциями: люди искали истину и попутно нашли свободу и благосостояние. Этим объясняется характер современного общества и его цивилизации; иначе его совершенно нельзя было бы понять.
(…)
Пусть поверхностная философия вопиет, сколько хочет, по поводу религиозных войн и костров, зажженных нетерпимостью, — мы можем только завидовать доле народов, создавших себе в борьбе мнений, в кровавых битвах за дело истины целый мир идей, которого мы даже представить себе не можем, не говоря уже о том, чтобы перенестись в него телом и душой, как у нас об этом мечтают.
Еще раз говорю: конечно, не все в европейских странах проникнуто разумом, добродетелью и религией, — далеко нет. Но все в них таинственно повинуется той силе, которая властно царит там уже столько веков, все порождено той долгой последовательностью фактов и идей, которая обусловила современное состояние общества.
Вот один из примеров, доказывающих это. Народ, физиономия которого всего резче выражена и учреждения всего более проникнуты духом нового времени, — англичане, — собственно говоря, не имеют иной истории, кроме религиозной. Их последняя революция, которой они обязаны своей свободою и своим благосостоянием, так же как и весь ряд событий, приведших к этой революции, начиная с эпохи Генриха VIII,— не что иное, как фазис религиозного развития. Во всю эпоху интерес собственно политический является лишь второстепенным двигателем и временами исчезает вовсе или приносится в жертву идее. (…)
Но пора вернуться к вам, сударыня. Признаюсь, мне трудно оторваться от этих широких перспектив. В картине, открывающейся моим глазам с этой высоты, — все мое утешение, и сладкая вера в будущее счастье человечества одна служит мне убежищем, когда, удрученный жалкой действительностью, которая меня окружает, я чувствую потребность подышать более чистым воздухом, взглянуть на более ясное небо. Однако я не думаю, что злоупотребил вашим временем. Мне надо было показать вам ту точку зрения, с которой следует смотреть на христианский мир и на нашу роль в нем. То, что я говорил о нашей стране, должно было показаться вам исполненным горечи; между тем я высказал одну только правду, и даже не всю. Притом христианское сознание не терпит никакой слепоты, а национальный предрассудок является худшим видом ее, так как он всего более разъединяет людей.
Мое письмо растянулось, и, думаю, нам обоим нужен отдых. Начиная его, я полагал, что сумею в немногих словах изложить то, что хотел вам сказать; но, вдумываясь глубже, я вижу, что об этом можно написать целый том. По сердцу ли это вам? Буду ждать вашего ответа. Но, во всяком случае, вы не можете избегнуть еще одного письма от меня…
Письмо второе
Если я удачно передал намедни свою мысль, вы должны были убедиться в том, что я отнюдь не думаю, будто нам не хватает одних только знаний. Правда, и их у нас не слишком много, но приходится в данное время обойтись без тех обширных духовных сокровищ, которые веками скапливались в других странах и находятся там в распоряжении человека: нам предстоит другое. К тому же, если допустить, что мы смогли бы путем изучения и размышления добыть себе недостающие нам знания, откуда нам взять мощные традиции, обширный опыт, глубокое осознание минувших времен, прочные умственные навыки – все эти последствия огромного напряжения всех человеческих способностей, а они-то и составляют нравственную природу народов Европы и дают им подлинное превосходство. Итак, задача сейчас не в расширении области наших идей, а в том, чтобы исправить те, которыми мы обладаем, и придать им новое направление. (…)
Начать с того, что состояние души нашей, как бы высоко мы ее ни настроили, зависит от окружающей обстановки. (…) Сделайте свой приют как можно более привлекательным, займитесь его красивым убранством и украшением, почему бы даже не вложить в это некоторую изысканность и нарядность? Ведь это вовсе не особый вид утонченной чувственности; заботы ваши будут иметь целью не вульгарные удовольствия, а возможность всецело сосредоточиться в своей внутренней жизни. Очень прошу вас не пренебрегать этими внешними мелочами. Мы живем в стране, столь бедной проявлениями идеального, что если мы не окружим себя в домашней жизни некоторой долей поэзии и хорошего вкуса, то легко можем утратить всякую деликатность чувства, всякое понятие об изящном.
Одна из самых поразительных особенностей нашей своеобразной цивилизации заключается в пренебрежении удобствами и радостями жизни. Мы лишь с грехом пополам боремся с ненастьями разных времен года, и это при климате, о котором можно не в шутку спросить себя, был ли он предназначен для жизни разумных существ. Раз мы допустили некогда неосторожность поселиться в этом жестоком климате, то постараемся по крайней мере ныне устроиться в нем так, чтобы можно было несколько забыть его суровость.
(…). В этом безразличии к жизненным благам, которые иные из нас вменяют себе в заслугу, есть поистине нечто циничное. Одна из главных причин, замедляющих у нас прогресс, состоит в отсутствии всякого отражения изящного в нашей домашней жизни.
Затем, я бы хотел, чтобы вы устроили себе в этом убежище, которое вы как можно лучше украсите, вполне однообразный и методический образ жизни. Нам всем не хватает духа порядка и методичности, избавимся от этого недостатка. Не стоит повторять доводов в пользу размеренной жизни; во всяком случае одно лишь постоянное подчинение определенным правилам может научить нас без усилий подчиняться высшему закону нашей природы. Но для точного соблюдения какого-либо правила необходимо устранить все, что этому мешает. Часто с первых часов дня бываешь выбит из намеченного круга занятий, и весь день испорчен. Нет ничего важнее первых испытанных нами впечатлений, первых мыслей, приходящих к нам, когда мы вновь возвращаемся к жизни вслед за подобием смерти, которое разделяет наши дни. Эти впечатления и эти мысли обычно предопределяют состояние нашей души на весь день. Вот, он начался домашней сварой и закончился непоправимой ошибкой. Поэтому приучитесь первые часы дня сделать как можно более значительными и торжественными, сразу вознесите душу на всю ту высоту, к какой она способна, старайтесь провести эти часы в полном уединении, устраняйте все, что может слишком на вас повлиять, слишком вас рассеять; при такой подготовке вы можете безбоязненно встретить те неблагоприятные впечатления, которые затем вас охватят и которые при других условиях превратили бы ваше существование в непрерывную борьбу, без надежды на победу. (…)
…Но вы, конечно, понимаете, что это далеко еще не все. Одна идея, пронизывающая всю вашу жизнь, должна всегда стоять перед вами, служить нам светочем во всякое время дня. Мы являемся в мир со смутным инстинктом нравственного блага, но вполне осознать его мы можем лишь в более полной идее, которая из этого инстинкта развивается в течение всей жизни. Этой внутренней работе надо все приносить в жертву, применительно к ней надо установить весь порядок вашей жизни. Но все это должно протекать в сердечном молчании, потому что мир не сочувствует ничему глубокому. Он отвращает взор от великих убеждений, глубокая идея его утомляет. Вам должны быть свойственны верное чувство и сосредоточенная мысль, не зависимые от различных людских мнений, а уверенно ведущие вас к цели. Не завидуйте обществу в его чувственных удовольствиях, вы обретете в своем уединении наслаждения, о которых там и понятия не имеют.
Я не сомневаюсь в том, что, освоившись с ясной атмосферой такого существования, вы станете спокойно взирать из своей обители на то, как волнуется и для вас исчезает мир, вы насладитесь покоем вашей души. А пока надо усвоить себе вкусы, привычки, привязанности вашего нового образа жизни. Надо избавиться от всякого суетного любопытства, расстраивающего и уродующего жизнь, и первым делом искоренить упорную склонность сердца увлекаться новинками, гоняться за злобами дня и вследствие этого постоянно с жадностью ожидать наступления дня завтрашнего. Иначе вы не обретете ни мира, ни благополучия, а одни только разочарования и отвращения.
Хотите ли вы, чтобы мирской поток разбивался у порога вашего мирного жилища? Если да, то изгоните из вашей души все эти беспокойные страсти, возбуждаемые светскими происшествиями, все эти нервные волнения, вызванные преходящими новостями. Замкните дверь перед всяким шумом, всякими отголосками света. Наложите у себя запрет, если хватит у вас решимости, даже и на всю легковесную литературу, – по существу она не что иное, как тот же шум, но только в письменном виде. На мой взгляд, нет ничего более несовместимого с правильным умственным укладом, чем жажда чтения новинок. Повсюду мы встречаем людей, ставших неспособными серьезно размышлять, глубоко чувствовать вследствие того, что пищу их составляли одни только эти недолговечные произведения, в которых за все хватаются, ничего не углубив, в которых все обещают, ничего не выполняя, где все принимает сомнительную или лживую окраску и все вместе оставляет после себя пустоту и неопределенность. (…)
…В старых цивилизованных странах Европы давно сложились определенные бытовые образцы, так что там, когда решишь переменить образ жизни, достаточно просто-напросто выбрать ту новую обстановку, в которую желаешь перенестись, – место заранее готово; распределение ролей сделано. Как только вы изберете подходящую для себя роль, и люди и предметы сами собой расположатся вокруг вас. Вам остается только должным образом их использовать. Совсем иное дело у нас. Сколько издержек, сколько труда, прежде чем Вы освоитесь в новой обстановке! Сколько теряется времени, сколько затрачивается сил на приспособление, на то, чтобы приучить окружающих смотреть на вас сообразно с новым вашим положением, чтобы заставить молчать глупца, чтобы улеглось любопытство. (…)
…Вам придется себе все создавать, сударыня, вплоть до воздуха для дыхания, вплоть до почвы под ногами. И это буквально так. Эти рабы, которые вам прислуживают, разве не они составляют окружающую вас атмосферу? Эти борозды, которые в поте лица взрыли другие рабы, разве это не та почва, которая вас носит? И сколько различных сторон, сколько ужасов заключает в себе одно слово: раб! Вот заколдованный круг, в нем все мы гибнем, бессильные выйти из него. Вот проклятая действительность, о нее мы все разбиваемся. Вот что превращает у нас в ничто самые благородные усилия, самые великодушные порывы. Вот что парализует волю всех нас, вот что пятнает все наши добродетели. Отягченная роковым грехом, где она, та прекрасная душа, которая бы не заглохла под этим невыносимым бременем? Где человек, столь сильный, чтобы в вечном противоречии с самим собою, постоянно думая одно и поступая по-другому, не опротивел самому себе? И вот я снова вернулся, сам того не замечая, к тому, с чего начал: позвольте мне еще немного об этом поговорить, и я затем вернусь к вам.
Эта ужасная язва, которая нас изводит, в чем же ее причина? Как могло случиться, что самая поразительная черта христианского общества как раз именно и есть та, от которой русский народ отрекся в лоне самого христианства? Откуда у нас это обратное действие религии? Не знаю, но мне кажется, одно это могло бы заставить усомниться в православии, которым мы кичимся.
Вы знаете, что ни один философ древности не пытался представить себе общества без рабов, да и не находил никаких возражений против рабства. Аристотель, признанный представитель всей той мудрости, какая только была в мире до пришествия Христа, утверждал, что люди родятся – одни, чтобы быть свободными, другие – чтобы носить оковы. Вы знаете также и то, что по признанию самых даже упорных скептиков уничтожением крепостничества в Европе мы обязаны христианству. Более того, известно, что первые случаи освобождения были религиозными актами и совершались перед алтарем и что в большинстве отпускных грамот мы встречаем выражение: pro redemptione animae – ради искупления души. Наконец, известно, что духовенство показало везде пример, освобождая собственных крепостных, и что римские первосвященники первые способствовали уничтожению рабства в области, подчиненной их духовному управлению. Почему же христианство не имело таких же последствий у нас? Почему, наоборот, русский народ попал в рабство лишь после того, как он стал христианским, а именно в царствование Годунова и Шуйских? Пусть православная церковь объяснит это явление. Пусть скажет, почему она не возвысила материнского голоса против этого отвратительного насилия одной части народа над другой.
И посмотрите, пожалуйста, как мало нас знают, невзирая на всю нашу мощь и величие. Как раз на этих днях в одно время и на Босфоре и на Евфрате прогремел гром наших пушек. (…) Дело в том, что значение народов в роде человеческом определяется лишь их духовной мощью и что тот интерес, который они к себе возбуждают, зависит от их нравственного влияния в мире, а не от шума, который они производят. Теперь вернемся назад.
После сказанного о желательном, на мой взгляд, для вас образе жизни, вы, пожалуй, могли бы подумать, что я требую от вас монашеской замкнутости. Но речь идет лишь о трезвом и осмысленном существовании, а оно не имеет ничего общего с мрачной суровостью аскетической морали. Я говорю о жизни, отличной от жизни толпы, с такой положительной идеей и таким чувством, преисполненным убеждения, к которому сводились бы все остальные мысли, все остальные чувства. Такое существование прекрасно мирится со всеми законными благами жизни: оно даже их требует, и общение с людьми – необходимое его условие. Одиночество таит свои опасности, в нем подчас нас ожидают странные искушения. Сосредоточенный в самом себе ум питается созданными им лживыми образами, и подобно св. Антонию населяет свою пустыню призраками. порождениями собственного воображения, и они его затем и преследуют. А между тем, если развивать религиозную мысль без страсти, без насилия, то сохранишь даже и среди мирской суеты то внутреннее состояние, перед которым бессильны все обольщения, все увлечения жизни.
Надо найти такое душевное настроение, мягкое и простое, которое сумело бы без усилий сочетать со всеми действиями разума, со всеми сердечными эмоциями идею истины и добра. В особенности следует стремиться проникнуться истинами Откровения. Огромное преимущество этих истин в том, что они доступны всякому разумному существу, что они мирятся с особенностями всех умов. К ним ведут все возможные пути: и покорная и слепая вера, которую без размышления исповедуют массы, и глубокое знание, и простодушное сердечное благоговение, и вдохновенное размышление, и возвышенная поэзия души. (…)
Многократно возвращаясь к основному началу нашей духовной деятельности, к движущим силам наших мыслей и наших поступков, невозможно не заметить, что значительная часть их определяется чем-то таким, что нам отнюдь не принадлежит, и что самое хорошее, самое возвышенное, самое для нас полезное из происходящего в нас вовсе не нами производится.
Все то благо, которое мы совершаем, есть прямое следствие присущей нам способности подчиняться неведомой силе – единственная действительная основа деятельности, исходящей от нас самих, связана с представлением о нашей выгоде в пределах того отрезка времени, который мы зовем жизнью; это не что иное, как инстинкт самосохранения, который присущ нам, как и всем одушевленным существам…
Поэтому, что бы мы ни делали, какую бы незаинтересованность ни стремились вложить в свои чувства и свои поступки, руководит нами всегда один только этот интерес, более или менее правильно понятый, более или менее близкий или отдаленный. Как бы ни было пламенно наше стремление действовать для общего блага, это воображаемое нами отвлеченное благо есть лишь то, чего мы желаем для самих себя, а устранить себя вполне нам никогда не удается: в том, что мы желаем для других, мы всегда учитываем собственное благо. И потому высший разум, выражая свой закон на языке человека, снисходя к нашей слабой природе, предписал нам только одно: поступать с другими так, как мы желаем, чтобы поступали с нами.
И в этом, как и во всем другом, он идет вразрез с нравственным учением философии, которая считает, что постигает абсолютное благо, т.е. благо универсальное, – как будто только от нас зависит составить себе понятие о полезном вообще, когда мы не знаем и того, что нам самим полезно. Что такое абсолютное благо? (…) …Движимые невидимой силой, мы можем улавливать ее действие, изучать ее в ее проявлениях, подчас отождествляться с нею, но вывести из всего этого положительный закон нашего духовного бытия – вот это нам недоступно. Смутное чувство, неоформленное понятие без обязательной силы – большего мы никогда не добьемся. Вся человеческая мудрость заключена в этой страшной насмешке Бога в Ветхом Завете: вот Адам стал как один из нас, познав добро и зло!
(…)
Впрочем, не подумайте, что нравственное учение философов не имеет с нашей точки зрения никакой ценности. Мы как нельзя лучше знаем, что оно содержит великие и прекрасные истины, которые долго руководили людьми и которые еще и сейчас с силой отзываются в сердце и в душе. Но мы знаем также, что истины эти не были выдуманы человеческим разумом, но были ему внушены свыше в различные эпохи общей жизни человечества. Это одна из первичных истин, преподанных естественным разумом, и которую разум, проникнутый откровением, лишь освящает своим высшим авторитетом. Хвала земным мудрецам, но слава одному только Богу! Человек никогда не шествовал иначе, как при сиянии божественного света. Свет этот постоянно озарял дорогу человека, но он не замечал того источника, из которого исходил яркий луч, падающий на его путь. Он просвещает, говорит евангелист, всякого человека, приходящего в мир; Он всегда был в мире, но мир его не познал.
(…) Считают, что существуют нравственные истины, которые может нам преподать одна только философия: это великое заблуждение. Нет такого человеческого знания, которое способно было бы заменить собою знание божественное. Для христианина все движение человеческого духа не что иное, как отражение непрерывного действия Бога на мир. В различных философских системах, во всех усилиях человека христианин усматривает лишь более или менее успешное развитие духовных сил мира сообразно различным состояниям и различным возрастам обществ, но тайну назначения человека он открывает не в тревожном и неуверенном колебании человеческого разума, а в символах и глубоких образах, завещанных человечеству учениями, источник которых теряется в лоне Бога. (…) Всюду узнает он эти всесильные и неизгладимые идеи, нисшедшие с неба на землю, без которых человечество давно бы запуталось в своей свободе.
(…)
…В новом мире, если человек все еще не распознает эти признаки, то это только добровольное ослепление: если он сбивается с пути праведного, то это не что иное, как преступное подчинение темному началу, оставленному в его сердце с единой целью сделать более действенным его единение с истиной.
Вы, конечно, предвидите, сударыня, к чему клонится все это рассуждение: само собой приходит на ум, каковы будут вытекающие из него последствия. В дальнейшем мы ими и займемся. Я уверен, что вы овладеете ими без труда. Впрочем, мы не станем более прерывать свою мысль такими отступлениями, которые на этот раз встретились на нашем пути, и сможем беседовать более последовательно и методично. Прощайте, сударыня.
Письмо третье
Поглощена смерть победою
(Исайя, XXV, 8)
…Как бы ни была сильна вера, разум должен уметь опираться на силы, заключенные в нем самом. Есть души, в которых вера непременно должна в случае необходимости найти доводы в разуме. Мне кажется, это как раз ваш случай. Вы слишком сроднились со школьной философией, вера ваша слишком недавнего происхождения, привычки ваши слишком далеки от той замкнутой жизни, в которой простое благочестие само себя питает и собой довольствуется; вы поэтому не сможете руководствоваться одним только чувством. Вашему сердцу без размышлений не обойтись.
Правда, в чувстве таится много озарений, сердцу несомненно присущи великие силы; но чувство действует на нас временно, и вызываемое им волнение не может длиться постоянно. Наоборот, добытое рассуждением остается всегда с нами. Продуманная идея нас никогда не покидает, каково бы ни было наше душевное настроение, между тем как идея, только прочувствованная, все время убегает от нас и изменяется: все зависит от силы, с какой бьется наше сердце. А сверх того, сердца не даются по выбору: какое уж у тебя есть, с тем и приходится мириться, разум же свой мы сами постоянно сознаем.
Вы утверждаете, что от природы расположены к религиозной жизни. Я часто думал об этом, и мне кажется, вы ошибаетесь. За природную потребность вы принимаете вызванное случайными обстоятельствами неопределенное чувство, мечтательную прихоть воображения. Нет, не так, не с таким беспокойным пылом отдаются настоящему призванию, раз оно найдено в жизни; тогда принимают судьбу свою с твердой решимостью, со спокойной уверенностью.
Конечно, можно и даже должно себя переделывать; для христианина уверенность в такой возможности и сознание своего долга в этом отношении – предмет веры и самое важное из чаяний. (…) Но пока мы не почувствовали, что наша ветхая природа растворяется и что зарождается в нас новый человек, созданный Христом, мы должны использовать все средства, чтобы приблизить этот желанный переворот: ведь он и не может наступить, пока мы на это не направим целиком все свои силы.
(…)
С самого первого пробуждения разума понимание того, что существуют две силы: одна – внутри нас находящаяся и несовершенная, другая – вне нас стоящая и совершенная, – само собой проникает в сознание человека. И хотя оно доходит до нас не в таких ясных и определенных очертаниях, как понимание, сообщаемое нашими чувствами, все же все наши идеи о добре, долге, добродетели, законе, а также и им противоположные, рождаются только от этой ощущаемой нами потребности подчиниться тому, что зависит не от нашей преходящей природы, не от волнений нашей изменчивой воли, не от увлечений наших тревожных желаний. Соглашаемся ли мы с этой силой, или противимся ей, – все равно, мы вечно под ее властью. Поэтому нам остается только стараться дать себе возможно верный отчет в ее действии на нас и, раз мы что-либо об этом узнали, отдаться ей со спокойной верой: эта сила, без нашего ведома действующая на нас, никогда не ошибается, она-то и ведет вселенную к ее предназначению. Итак, в чем состоит главный вопрос жизни? Как открыть действие верховной силы на наше существование?
(…)
Далее. Что такое логический анализ, как не насилие разума над самим собою? Дайте разуму волю, и он будет действовать одним синтезом. Аналитическим путем мы можем идти лишь с помощью чрезвычайных усилий над самими собой: мы постоянно сбиваемся на естественный путь, путь синтеза. С синтеза и начал человеческий разум, и именно синтез есть отличительная черта науки древних. Но как ни естественен синтез, как он ни законен, и часто далее более законен, чем анализ, несомненно все же – к наиболее деятельным проявлениям мысли принадлежат именно процессы подчинения, анализа. С другой стороны, всмотревшись в дело внимательно, находим, что величайшие открытия в естественных науках – чистые интуиции, совершенно спонтанные, т.е. что они проистекают из синтетического начала. Но заметьте, что хотя интуиция разума и является одним из самых деятельных его орудий, мы все же не можем дать себе в ней полного отчета, как в других наших способностях. Дело в том, что мы не просто-напросто владеем ею, как другими способностями; в этой способности есть нечто, принадлежащее высшему разуму, ей дано лишь отражать этот высший разум в нашем. И потому-то мы и обязаны интуиции самыми блестящими нашими озарениями.
Таким образом, ясно, что человеческий разум не достигает самых положительных своих знаний чисто внутренней своею силой, а направляется непременно извне. Следовательно, настоящая основа нашей умственной мощи в сущности не что иное, как своего рода логическое самоотречение, однородное с самоотречением нравственным и вытекающее из того же закона.
(…)
…К чему бы пришел род человеческий, если бы понятие об этом благе было одной лишь выдумкой нашего разума? Что ни век, что ни народ имели бы тогда о нем свою особую идею. Как могло бы человечество в целом шествовать вперед в своем беспредельном прогрессе, если бы в сердце человека не было одного мирового понятия о благе, общего всем временам и всем странам и, следовательно, не человеком созданного? В силу чего наши действия становятся нравственными? Не делает ли их таковыми то повелительное чувство, которое заставляет нас покоряться закону, уважать истину? Но ведь закон только потому и закон, что он не от нас исходит; истина потому и истина, что она не выдумана нами.
(…)
Теперь посмотрим, что бы вышло, если бы человек мог довести свою подчиненность до совершенного лишения себя своей свободы. Из только что сказанного ясно, что это было бы высшей ступенью человеческого совершенства. Ведь всякое движение души его вызывалось бы тем самым началом, которое производит все другие движения в мире. Тогда исчез бы теперешний его отрыв от природы и он бы слился с нею. Ощущение своей собственной воли выделяет его теперь из всеобщего распорядка и делает из него обособленное существо, – а тогда в нем бы проснулось чувство мировой воли, или говоря иными словами, – внутреннее ощущение, глубокое сознание своей действительной причастности ко всему мирозданию.
(…)
…Вот та высшая жизнь, к которой должен стремиться человек, жизнь совершенства, достоверности, ясности, беспредельного знания, но прежде всего – жизнь совершенной подчиненности; жизнь, которой он некогда обладал, но которая ему также обещана и в будущем. А знаете ли вы, что это за жизнь? Это Небо: и другого неба помимо этого нет. Вступить в него нам позволено отныне же сомнений тут быть не должно. Ведь это не что иное, как полное обновление нашей природы в данных условиях, последняя грань усилий разумного существа, конечное предназначение духа в мире. Я не знаю, призван ли каждый из нас вступить на это поприще, достигнет ли он его славной конечной цели, но то, что предельной точкой нашего прогресса только и может быть полное слияние нашей природы с природой всего мира, это я знаю, ибо только таким образом может наш дух вознестись к полному совершенству, а это и есть подлинное выражение высшего разума.
(…)
Чтобы размышлять, чтобы судить о вещах, необходимо иметь понятие о добре и зле. Отнимите у человека это понятие, и он не будет ни размышлять, ни судить, он не будет существом разумным. Этого понятия Бог не мог лишить нас ни на мгновение; он нас и создал с ним. И эта-то несовершенная идея, непостижимым образом вложенная в нашу душу, составляет всю сущность разумного человека.
Сокольники, 1 июня, 1830.
Письмо четвертое
Да, я свободен, могу ли я в этом сомневаться? Пока я пишу эти строки, разве я не знаю, что я властен их не писать? Но с идеей о моей свободе связана другая ужасная идея, страшное, беспощадное следствие ее – злоупотребление моей свободой и зло как его последствие.
Предположим, что одна единственная молекула вещества один только раз приняла движение произвольное, что она, например, вместо стремления к центру своей системы, сколько-нибудь отклонилась в сторону от радиуса, на котором находится. Что же при этом произойдет? Не потрясется ли тотчас весь порядок мироздания? Не сдвинется ли с места всякий атом в бесконечных пространствах? Мало того, все тела стали бы по произволу в беспорядке сталкиваться и взаимно разрушать друг друга.
Но что же? Понимаете ли вы, что это самое делает каждый из нас в каждое мгновение? Мы только и делаем, что вовлекаемся в произвольные действия и всякий раз потрясаем все мироздание. И эти ужасные опустошения в недрах творения мы производим не только внешними действиями, но каждым душевным движением, каждой из сокровеннейших наших мыслей. Таково зрелище, которое мы представляем Всевышнему.
Почему же Он терпит все это? Почему не выметет из пространства этот мир возмутившихся тварей? И еще удивительнее, – зачем наделил Он их этой страшной силой? Он так захотел. Сотворим человека по Нашему образу и подобию, – сказал Он. Этот образ Божий, Его подобие – это наша свобода.
Но сотворив нас столь удивительным образом, он к тому же одарил нас способностью знать, что мы противимся своему Создателю. Можно ли сомневаться, что, подарив нам эту удивительную силу, как будто идущую вразрез с мировым порядком, Он не захотел дать ей должное направление, не захотел просветить нас, как мы должны ее использовать? Слову Всевышнего внимало сначала все человечество, олицетворенное в одном человеке, в котором заключались все грядущие поколения; впоследствии Он просветил отдельных избранников, дабы они хранили истину на земле, и наконец, признал достойным одного из нас быть облеченным божественным авторитетом, быть посвященным во все его сокровенности, так что Он стал с Ним одно, и возложил на него поручение сообщить нам все, что нам доступно из божественной тайны.
Вот чему учит нас священная мудрость. Но наш собственный разум не говорит ли нам то же самое?
Письмо пятое
(…)
Тысячи скрытых нитей связывают мысли одного разумного существа с мыслями другого; наши самые сокровенные мысли находят всевозможные средства вылиться наружу; распространяясь, перекрещиваясь между собой, они сливаются воедино, сочетаются, переходят из одного сознания в другое, дают ростки, приносят плоды – и, в конце концов, порождают общий разум. Иногда случается, что проявленная мысль как будто не производит никакого действия на окружающее; а между тем – движение передалось, толчок произошел; в свое время мысль найдет другую, родственную, которую она потрясет, прикоснувшись к ней, и тогда вы увидите ее возрождение и поразительное действие в мире духовном. Вы знаете такой физический опыт: подвешивают несколько шариков в ряд; отстраняют первый шарик, и последний шарик отскакивает, а промежуточные остаются неподвижными. Вот так и передается и мысль, проносясь сквозь мозг людей. Сколько великих и прекрасных мыслей, откуда-то явившихся, охватили бесчисленные массы и поколения! Сколько возвышенных истин живет и действует, властвуя или светясь среди нас, и никто не знает, ни откуда явились эти грозные силы или блестящие светочи, ни как они пронеслись через времена и пространства!
А что такое то мировое сознание, которое соответствует мировой материи и на лоне которого протекают явления духовного порядка подобно тому, как явления порядка физического протекают на лоне материальности? Это не что иное, как совокупность всех идей, которые живут в памяти людей. Для того, чтобы стать достоянием человечества, идея должна пройти через известное число поколений; другими словами, идея становится достоянием всеобщего разума лишь в качестве традиции.
Но речь идет здесь отнюдь не только о тех традициях, которые сообщаются человеческому уму историей и наукой: эти традиции составляют лишь часть мировой памяти. А много есть и таких, которые никогда не оглашались перед народными собраниями, никогда не были воспеты рапсодами, никогда не были начертаны ни на колоннах, ни на пергаменте; самое время их возникновения никогда не было проверено исчислением и приурочено к течению светил небесных; критика никогда не взвешивала их на своих пристрастных весах; их влагает в глубину душ неведомая рука, их сообщают сердцу новорожденного первая улыбка матери, первая ласка отца. Таковы всесильные воспоминания, в которых сосредоточен опыт поколений: всякий индивидум их воспринимает с воздухом, которым дышит. И в этой-то среде совершаются все чудеса сознания.
(…)
Как бы ни замыкаться в себе, как бы ни копаться в сокровенных глубинах своего сердца, мы никогда там ничего не найдем, кроме мысли унаследованной от наших предшественников на земле. Это разумение, как его ни разлагать, как его ни расчленять на части, всегда останется разумением всех поколений, сменившихся со времен первого человека и до нас; и когда мы размышляем о способностях нашего ума, мы пользуемся лишь более или менее удачно этим самым мировым разумом, с тем, чтобы наблюдать ту его долю, которую мы из него восприняли в продолжение нашего личного существования.
(…)
…Надо воздать Ему должное: Его создание и в теперешнем своем виде заслуживает с нашей стороны всяческого уважения. Он измерил уверенной рукой пределы человеческого разума; Он выяснил, что разум этот принужден принять два самых глубоких своих убеждения, а именно: существование Бога и неограниченность Своего бытия, не имея возможности их доказать; он научил нас тому, что существует верховная логика, которая не подходит под нашу мерку и которая вне зависимости от нашей воли над нами тяготеет, и что имеется мир, отличный от нашего, а вместе с тем существующий одновременно с тем, в котором мы мечемся, и мир этот наш разум вынужден признать из опасения в противном случае самому ввергнуться в небытие, и, наконец, что именно отсюда мы должны почерпнуть все наши познания, чтобы затем применить их к миру реальному.
(…)
Раз это установлено, ясно, что нам еще должно исследовать: нам остается лишь проследить движение этих традиций в истории человеческого рода, чтобы выяснить, каким образом и где идея, первоначально вложенная в сердце человека, сохранилась в целости и чистоте.
Письмо шестое
(…)
Если задуматься над самим способом этого постоянного воздействия божественного разума в духовном мире, то обнаруживаешь, что оно не только должно быть таким, как мы только что видели, соответствующим его первоначальному действию, но еще и то, что осуществляться оно должно таким образом, чтобы человеческий разум оставался совершенно свободным и мог развить всю свою деятельность. Поэтому нет ничего удивительного, что существовал народ, среди которого традиция первоначальных внушений Бога сохранилась в большей чистоте, с большей определенностью, чем среди других, и что время от времени появлялись люди, через которых как бы возобновлялось первоначальное действие нравственного порядка. Если устранить этот народ, устранить этих избранных людей, то придется предположить, что у всех народов, во все эпохи всеобщей жизни человека, во всякой отдельной личности божественная мысль сохранялась одинаково полной, одинаково живой.
В остальной части человеческого рода эти великие традиции также поддерживались в большей или меньшей чистоте в зависимости от различных условий этих народов; и человек шествовал по предписанному ему пути лишь при свете этих всесильных истин, которые в его сознании породил отличный от него разум. (…) Вот как понимается религиозное единство истории и как эта концепция возвышается до настоящей философии времен, которая показывает нам, что разумное существо точно так же подчинено общему закону, как и остальные создания.
Я очень желал бы, сударыня, чтобы вы могли усвоить себе этот отвлеченный и религиозный способ осознавать историю: ничто так не расширяет нашей мысли и не очищает нашей души так, как эти неясные замыслы Провидения, властвующего в веках и ведущего человеческий род к его конечному назначению.
(…)
Прежде всего, что означают все эти сопоставления веков и народов, которые нагромождает пустая ученость друг на друга? Все эти родословные языков, народов и идей? (…) Все это удивительное сплетение времен она [историческая наука] объясняет своей любимой теорией естественного развития человеческого духа, без всяких следов Провидения, без влияния какой бы то ни было причины, кроме механической силы человеческой природы. С точки зрения этой теории, человеческий разум, как известно, не более, чем ком снега, растущий по мере того, как его катят. Впрочем, она или усматривает повсюду прогресс и естественное совершенствование, присущее, по ее мнению, человеческому существу, или же она находит какое-то бессмысленное и беспричинное движение.
Смотря по духовной организации исследователя, то мрачной и безнадежной, а то, напротив, исполненной надежд и уверенности в воздаяние, эта философия заставляет человека или бессмысленно трепыхаться подобно мошкаре в солнечном луче, или все подниматься и подниматься силою своей возвышенной природы; но она всегда видит во всем этом человека и только человека.
(…)
…Одним из важнейших указаний так [по-христиански] понимаемой истории было бы закрепление в памяти человеческого ума относительных степеней народов, исчезнувших со сцены мира, и установление в сознании живых народов ощущения тех судеб, которые они призваны выполнять. Всякий народ, ясно воспринимая различные эпохи прошедшей жизни, видел бы в истинном свете и настоящее свое положение и умел бы предвидеть тот путь, который ему надлежит пройти в будущем. У всех народов образовалось бы истинное национальное сознание, состоящее из некоторого числа положительных идей, очевидных истин, выведенных на основе их воспоминаний, из твердых убеждений, которые господствовали бы в большей или меньшей мере над всеми умами и направляли бы их к одной и той же цели. И тогда национальности, которые до сих пор лишь разделяли людей, избавившись от ослепления и от страстного преследования своих интересов, объединились бы для достижения согласованного и всеобщего результата; тогда все народы протянули бы, может быть, друг другу руки и вместе пошли бы к одной цели.
…Если рассудить, что народы, хотя они и сложные существа, на самом деле существа нравственные, подобно личностям, а следовательно, что один и тот же закон властвует в духовной жизни тех и других, то, очевидно, деятельность великих семей человечества по необходимости зависит от личного чувства, вследствие которого они сознают себя как бы выделенными из остальной части человеческого рода, имеющими собственное свое существование и свой личный интерес. Это чувство является необходимой составной частью мирового сознания… Следовательно, в наших чаяниях грядущего благоденствия и беспредельного совершенствования так же невозможно сразу устранить величайшие личности человечества, как и ничтожнейшие, из которых те составляются. Следовательно, их надо принять безусловно, как принципы и средства к более совершенному существованию. Поэтому космополитическое будущее, обещаемое философией, не более, чем химера.
Сначала надо заняться выработкой домашней нравственности народов, отличной от их политической морали; им надо сначала научиться знать и оценивать самих себя, как и отдельным личностям; они должны знать свои пороки и свои добродетели; они должны научиться раскаиваться в ошибках и преступлениях, ими совершенных, исправлять совершенное ими зло, упорствовать в добре, по пути которого они идут. В этом заключается, по нашему мнению, первое условие настоящей способности совершенствования для народов, как и для отдельных личностей; как те, так и другие для выполнения своего назначения в мире должны опереться на пройденную часть своей жизни и найти свое будущее в своем прошлом.
Вы видите, при таком отношении к делу историческая критика из предмета пустого любопытства стала бы высочайшим из судилищ. Она произносила бы неумолимый суд над гордостью и величием всех веков; она тщательно проверила бы всякую репутацию, всякую славу; она расправилась бы со всеми призраками и всеми историческими увлечениями; она занялась бы усиленно уничтожением лживых образов, которые загромождают память людей, с тем, чтобы прошлое, представ перед разумом в истинном свете, дало ему возможность вывести определенные следствия по отношению к настоящему и направить с некоторой уверенностью взоры в бесконечные дали будущего.
(…)
И тогда, сударыня, взору мудреца, оглянувшегося на прошлое, мир, каким он был… предстанет его воображению в его настоящем свете, – развращенным, окровавленным, изолгавшимся. Он бы понял, что тот прогресс народов и поколений, которым он так восхищался, привел их на самом деле лишь к одичанию, неизмеримо более жалкому, нежели в тех народах, которые мы называем дикими; и как доказательство того, насколько несовершенны были цивилизации древнего мира, он, без сомнения, убедился бы, что в них не было никакого принципа длительности и непрерывности. Глубокая мудрость Египта, пленительные красоты Ионии, доблести Рима, блеск Александрии, что с вами сталось? – спросил бы он себя. Блестящие цивилизации, древние как мир, вскормленные всеми силами земли, связанные со всеми славами, со всеми величиями, со всеми господствами и, наконец, с самой мощной властью, когда-либо попиравшей землю, как могли вы исчезнуть с лица земли? К чему же вела вся эта работа веков, все эти гордые усилия духовной природы, если новые народы, не принимавшие в этом участия, должны были однажды все это разрушить, ниспровергнуть это великолепное здание и запахать его развалины?
(…)
Но не ошибитесь, сударыня. Вовсе не варвары разрушили старый мир; он уже был истлевшим трупом; они лишь развеяли прах его по ветру. Эти же самые варвары нападали ранее на древние общества и не могли их даже поколебать; история едва помнит их давние нашествия. Дело в том, что принцип жизни, который делал возможным существование общества, был исчерпан; что материальный интерес, или, если хотите, интерес реальный, который один только определял ранее общественное движение, как бы выполнил до конца свою задачу и совершил предварительное воспитание человеческого рода…
К несчастью, слишком долго держалась привычка видеть в Европе только отдельные государства. Устойчивость нового мира и его огромное превосходство над древним еще не оценены. Не обращали внимания на то, что в продолжение ряда веков Европа составляла настоящую федеральную систему или скорее как бы один народ, и что эта система была разорвана лишь Реформацией. Но когда Реформация произошла, общество уже было воздвигнуто навеки.
До этого рокового события народы Европы смотрели на себя как на одно социальное тело, хотя и разделенное территориально на различные государства, но в нравственном отношении принадлежащее к одному целому. Долгое время у них не было другого публичного права помимо церковного; тогдашние войны рассматривались как междоусобные; один-единственный интерес одушевлял весь этот мир; одна мысль его вдохновляла. Вот что придает истории средних веков глубоко философское значение; это в буквальном смысле слова истории человеческого духа; движение нравственное, движение мысли составляли главное ее содержание; события чисто политические находятся там всегда на втором плане и лучше всего это доказывают те самые войны из-за убеждений, которые были для философии прошлого века предметом такого ужаса.
Вольтер совершенно правильно отмечает, что убеждения вызывали войны лишь у христиан… Но когда находишь в истории не повторяющийся нигде более факт, он заслуживает, на мой взгляд, того, чтобы постараться прежде всего хорошенько понять, что его вызвало и что из него получилось. И я спрашиваю вас, могло ли установиться в мире царство мысли иначе, как предоставлением принципу мысли всей его действительности, всей его напряженности? Видимость вещей, если вам так угодно, изменилась, и это последствие раскола; раздробив единство идеи, он раздробил также и единство общества. Но основа вещей осталась, конечно, прежней: Европа и сейчас еще является христианским миром, что бы она ни делала.
Без сомнения, она не вернется более к тому состоянию, в каком она была в пору своей юности и роста; но нельзя сомневаться и в том, что некогда черты, разделяющие христианские народы, снова сотрутся, и первоначальный принцип нового общества, хотя и в новой форме, обнаружится с большей силой, нежели когда-либо прежде. Для христианина это предмет веры; ему не позволительно сомневаться в этом будущем…
Сударыня, отличительные черты нового общества следует искать в большой семье христианских народов; именно здесь находится элемент устойчивости и истинного прогресса, отличающий его от всякой другой социальной системы мира; в этом сокрыты все великие поучения истории.
Итак, мы видим, что при всех переворотах, испытанных новым обществом, оно не только не утратило ничего в своей жизненности, но с каждым днем еще растет в силе, и с каждым днем в нем обнаруживаются новые возможности в дополнение к развившимся ранее.
…Заметьте, что Китай, по-видимому, с незапамятных времен обладал тремя великими орудиями, которые, как говорят, наиболее ускорили среди нас движение вперед человеческого ума: компасом, печатным станком и порохом. И что же? На что они ему послужили? Объехали ли китайцы кругом земного шара? Открыли ли они новое полушарие? Есть ли у них литература, более обширная, чем та, которой мы обладали ранее изобретения книгопечатания? В злосчастном искусстве войны были ли у них Фридрихи и Бонапарты, как у нас? Относительно Индостана – есть ли на свете что-либо более убедительное, свидетельствующее о бессилии и печальном состоянии всякого общества, не опирающегося на истину, исшедшую непосредственно от высшего разума, чем то унизительное состояние, в которое его привело завоевание татар и англичан? Я не могу сомневаться в том, что эта тупая неподвижность Китая и необычайное принижение индусского народа, хранителя древнейших природных достижений и зародышей всех человеческих познаний, заключают в себе важнейший урок и что именно поэтому Бог сохранил их на земле.
Вам часто приходилось слышать мнение, будто падение Римской империи произошло ввиду развращения нравов и деспотизма, который за ним последовал. Но в этой всемирной революции дело касается не одного Рима, погиб не Рим, а целиком вся древняя цивилизация. Египет фараонов, Греция Перикла, второй Египет Лагидов и вся Греция Александра, которая простиралась за Инд, наконец, даже и иудаизм, с тех пор, как он эллинизировался, все это растворилось в римской массе и составляло одно целое, одно общество, которое совместило в себе все предшествующие поколения с самого начала, заключало в себе все нравственные и умственные силы, развившиеся до этого в человеческой природе. Значит, не империя погибла, погибло и вновь восстало человеческое общество.
С тех пор, как земной шар был как бы охвачен Европой и новый мир, всплывший из океана, был ею заново пересоздан, а остальные человеческие племена настолько ей подчинились, что можно считать их как бы существующими только в меру их произволения, легко себе представить происходившее на земле тогда, когда сокрушалось старое здание, а новое чудесным образом возникало взамен его: нравственное начало вселенной получало новый закон, новое устройство. Разумеется, материал старого мира был использован при построении нового; материальная основа нравственного порядка по необходимости осталась прежняя, и к тому же еще совсем новый материал, почерпнутый из пластов, не тронутых старой цивилизацией, был доставлен провидением; деятельные и сосредоточенные способности с Севера сочетались с пылкими силами Юга и Востока; холодная и строгая мысль северного климата слилась с горячей и радостной мыслью умеренного; можно сказать, сколько ни было духовных сил, рассеянных по земле, все они соединились в этот день, чтобы зародились поколения идей, элементы которых были до тех пор погребены в самых таинственных глубинах человеческого сердца.
Но ни план здания, ни цемент, связавший воедино эти разнообразные материалы, не были делом рук человеческих: все совершила пришедшая с неба мысль. (…) Разве та часть мирового разума, которая ныне господствует над всей остальной ее массой и влечет за собой ее, не ведет своего начала с первых дней нашей эры? Мировой разум не есть ли теперь разум христианский? Не знаю, может быть черта, отделяющая нас от древнего мира, заметна не для всякого глаза, но для меня к этому сводится вся моя философия, вся моя мораль, вся моя религия. И, я надеюсь, придет время, когда всякий возврат к язычеству, и особенно тот, который свершился в пятнадцатом веке, и носит, если не ошибаюсь, имя «возрождение искусств», со всеми своими продолжениями и последствиями будет оцениваться как преступное опьянение, самую память о котором надо стараться всеми силами стереть в мировом сознании.
(…)
Можно подумать, будто бы человек во все времена только и делал, что шел вперед, никогда не отступая назад; что в движении разумной природы никогда не было столкновений, поворотов в обратную сторону, а только развитие и прогресс. Но как же народы, о которых я говорил выше, не трогаются с места с тех пор, как мы их знаем? Вам говорят, что народы Азии остановились в своем развитии. Но почему же они остановились? Чтобы дойти до состояния, в котором они сейчас находятся, они как будто должны были действовать, как и мы: добиваться, изобретать, делать открытия. Отчего же, дойдя до известной ступени, они сразу остановились и с тех пор не могли ничего выдумать, ничего создать?
Ответ прост: причина в том, что прогресс человеческой природы отнюдь не безграничен, как это воображают: есть предел, которого ему не удается переступить, Поэтому-то общества древнего мира не всегда подвигались вперед; поэтому-то Египет не сошел с места со времени посещения его Геродотом вплоть до установления владычества греков: поэтому-то и римский мир, столь прекрасный, столь яркий, воспринявший в себя все просвещение стран от столбов Геркулеса до Ганга, был вынужден постепенно уменьшаться и дошел к моменту озарения человеческого разума новым светом до того состояния неподвижности, которым по необходимости заканчивается всякий человеческий прогресс.
Если только подумать об этом времени, столь богатом результатами, без школьных предрассудков, об этом историческом бедствии, легко убедиться, что сверх чрезвычайного развращения нравов, потери всякого чувства доблести, свободы, любви к родине, упадка во всех отраслях человеческих знаний, в то время еще наступил полный застой во всем, и умы вращались только в узком и ложном кругу, который они переступали лишь с тем, чтобы окунуться в бессмысленное беспутство.
Как только удовлетворен интерес материальный, человек не идет вперед, хорошо еще, если он не отступает. Таков факт. Не надо заблуждаться: в Греции как и в Индостане, в Риме, как и в Японии, в Мексике, как и в Китае, вся умственная работа, как бы она ни была замечательна – в прошлом и настоящем, всегда вела и всегда будет вести к одному и тому же: поэзия, философия, искусство, все это служило и служит одной лишь телесной природе человека. (…) Не надо только думать, что этот земной интерес, вечный возбудитель всякой человеческой деятельности, ограничивается одними только чувственными потребностями; он проявляется в различных формах, зависит от степени развития общества, от тех или других местных условий, но никогда, в конце концов, не поднимаясь до потребностей чисто нравственного существа.
Одно только христианское общество действительно руководимо интересами мысли и души. В этом и состоит способность к усовершенствованию новых народов, в этом и заключается тайна их цивилизации.
Здесь, в какой бы мере ни проявлялся другой интерес, всегда окажется, что он подчинен этой могучей силе, которая в христианском обществе овладевает всеми свойствами человека, подчиняет себе все способности его разума, не оставляет ничего в стороне, заставляет все служить осуществлению своего предназначения. И этот интерес никогда не может быть удовлетворен до конца; он беспределен; поэтому христианские народы должны постоянно идти вперед.
И хотя та же цель, к которой они стремятся, не имеет ничего общего с другим благополучием – единственным, какое могут ставить перед собой народы нехристианские, – оно находится на пути христианских народов, которые употребляют его к своей выгоде; и жизненные блага, которых одних добиваются прочие народы, получаются и христианскими, но другим путем, по слову Спасителя: Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам. Так, огромное развитие всех духовных сил, возбужденных господствующим у них духом, доставляет им все блага.
Но у нас, наверное, никогда не будет ни китайской неподвижности, ни греческой упадочности, а тем менее – полного крушения нашей цивилизации. Достаточно оглядеться кругом, чтобы в этом убедиться. Для такого крушения весь земной шар должен быть разрушен до основания, должен произойти второй переворот, подобный тому, который придал ему теперешнюю его форму. Если бы даже было целиком поглощено одно из двух полушарий, того, что сохранилось бы от наших дней во втором, хватило бы для восстановления человеческого разума. Никогда, нет, никогда не остановится и не погибнет мысль, которая должна подчинить себе мир: для этого ее должно было бы поразить свыше особое повеление Того, Кто вложил ее в душу человека.
Во всяком случае я надеюсь, сударыня, что вы найдете этот философский вывод из размышлений об истории более положительным, более очевидным, а главное – более поучительным, чем те, которые на свой лад делает прежняя история из обзора веков, ссылаясь на почву, климат, расы людей и т.п., а также на прославленную способность людей к совершенствованию.
Письмо седьмое
Сударыня.
Чем более Вы будете вдумываться в то, что я говорил Вам на днях, тем яснее Вам представится, что то же самое было уже много раз сказано людьми всех партий и всех убеждений и что я только придаю сказанному особое значение, которого ранее в нем не видели. А между тем, я уверен, что если эти письма как-нибудь случайно увидят свет, в них непременно усмотрят парадоксы. Стоит поддерживать самые давние идеи с некоторой долей убеждения, чтобы их приняли за какие-то странные новости.
(…)
Вот, сударыня, один из самых показательных примеров лживости некоторых исторических представлений, господствующих в наше время. Как вы знаете, греки из искусства создали величайшую идею человеческого духа. Посмотрите же, в чем состоит это великолепное создание эллинского гения. Идеализовано, возвеличено, обоготворено было то материальное, что есть в человеке; естественный и законный порядок вещей был извращен; то, что должно было навсегда оставаться в низших областях духовного мира, было возведено в высшую область мысли; действие чувств на ум было возвеличено неизмеримо; главная черта, отделяющая божественное от человеческого в разуме, была стерта. Отсюда хаотическое смешение всех нравственных элементов. Ум страстно накинулся на предметы, менее всего достойные его внимания; неслыханную привлекательность приобрело самое порочное в природе человека; на место первоначальной поэзии правды в воображение вторглась поэзия лжи; данная нам могущественная способность представлять себе то, что лишено образа, проникать взором в невидимое стала с тех пор применяться лишь для того, чтобы сделать осязаемое еще более осязаемым, земное – еще более земным; в итоге наше физическое существо настолько же выросло, насколько умалилось духовное. И если такие мудрецы, как Пифагор и Платон, боролись с этим пагубным направлением духа своего времени, их усилия ни к чему не привели, так как они сами более или менее были увлечены тем же, и только тогда, когда христианство обновило человеческое мышление, их учение приобрело настоящее влияние. Вот что совершило искусство греков. Это был апофеоз материи, отрицать этого нельзя.
Рассматривают сохранившиеся от того времени памятники, не понимая их значения, восхищаются при виде удивительных вдохновений гения, который, к счастью, более не существует, не подозревая всего нечистого, что при этом рождается в сердце, всего лживого, что возникает в уме; это какой-то культ, опьянение, очарование, в которых нравственное чувство целиком исчезает. А между тем, стоит только хладнокровно отдать себе отчет в том чувстве, которое нас наполняет среди этого бессмысленного восхищения, чтобы убедиться, что его производит самая низменная сторона нашей природы, что, можно бы сказать, мы плотью своей воспринимаем эти мраморные и бронзовые тела.
И, заметьте, вся красота, все совершенство этих изваяний происходит только от совершенного безмыслия, которое в них запечатлено: как только там проявится малейший проблеск разума, тотчас исчезает очаровывающий нас идеал. Так что мы созерцаем даже не образ разумного существа, а образ какого-то существа измышленного, своего рода чудовища, порожденного самым беспорядочным извращением человеческого ума, облик которого никак не должен бы был привлекать, а, напротив, отталкивать нас.
(…)
Перейдем к Магомету. Если подумать о благе, вытекающем для человека из его религии, то видно, что, во-первых, она вместе с другими более сильными причинами содействовала уничтожению многобожия, затем, что она распространила на громадном протяжении земного шара, и притом в таких областях, которые можно было считать недоступными влиянию общего движения разума, – идею единого Бога и всемирного верования: она таким образом приготовила бесчисленное множество людей к конечным судьбам человеческого рода; поэтому необходимо признать, что, несмотря на дань, которую этот великий человек заплатил своему времени и своей родине, он заслуживает несравненно большего уважения людей, чем толпа бесполезных мудрецов, которые никогда не умели воплотить и использовать ни одного из своих измышлений, а лишь раздробили человеческое существо вместо того, чтобы стремиться к объединению разрозненных элементов его природы.
Исламизм есть одно из самых замечательных проявлений общего закона; судить о нем иначе, значит не понимать всемирное влияние христианства, от которого он происходит. Самое существенное свойство нашей религии состоит в способности принимать самые различные формы религиозного мышления, в умении согласовывать свои действия в случае необходимости, даже и с заблуждением, для того чтобы достигнуть конечного результата.
В великом историческом развитии религии Откровения религия Магомета должна быть непременно рассматриваема как одно из ее разветвлений. …Магометанство как результат религиозного брожения, вызванного на Востоке появлением новой веры, стоит в первом ряду тех явлений, которые на первый взгляд не вытекают из христианства, но на самом деле, конечно, исходят из него. Таким образом, помимо влияния отрицательного, которое оно имело на образование христианского общества, сливая разрозненные интересы народов в единую задачу общего спасения, помимо богатого материала, который цивилизация арабов передала нашей, что следует рассматривать как косвенные пути, использованные Провидением для довершения возрождения человеческого рода, – в собственном воздействии ислама на дух покоренных им народов следует видеть прямое положительное действие учения, из которого оно исходит, которое здесь лишь приспособилось к некоторым местным и современным потребностям для того, чтобы получить средство посеять семена истины на более обширном пространстве. Счастливы те, кто служит Господу сознательно и убежденно! Но не забудем и того, что имеется в мире бесконечное множество сил, послушных голосу Христа, хотя они не имеют никакого понятия о верховной силе, которая приводит их в движение!
(…)
Я не договорил всего, что намеревался Вам сказать, но пора кончать. А знаете ли Вы вот что: в сущности, до Гомера, греков, римлян, германцев нам, русским, нет никакого дела. Нам все это вполне чуждо. Но что поделаешь! Поневоле приходится говорить языком Европы. Наша чужеземная цивилизация так загнала нас в Европу, что хотя мы и не имеем ее идей, у нас нет другого языка, кроме языка той же Европы; им и приходится пользоваться.
Если ничтожное количество установившихся у нас умственных навыков, традиций, воспоминаний, если ничто вообще из нашего прошлого не объединяет нас ни с одним народом на земле, если мы на самом деле не принадлежим ни к какой нравственной системе вселенной, своими социальными мерками мы все же связаны с западным миром. Эта связь, надо признаться, очень слабая, не соединяющая нас с Европой так крепко, как это воображают, и не заставляющая нас ощущать всей своей сущностью великое движение, которое там совершается, все же ставит нашу будущую судьбу в зависимость от судьбы европейского общества. Поэтому, чем более мы будем стараться с нею отождествиться, тем лучше нам будет.
До сих пор мы жили обособленно; то, чему мы научились от других, осталось вне нас как простое украшение, не проникая в глубину наших душ; в наши дни силы высшего общества так возросли, его действие на остальную часть человеческого рода так расширилось, что вскоре мы будем увлечены всемирным вихрем, и телом и духом, это несомненно: нам никак не удастся долго еще пробыть в нашем одиночестве.
Сделаем же, что в наших силах, для расчистки путей нашим внукам. Не в нашей власти оставить им то, чего у нас не было: верований, разума, созданного временем, определенно обрисованной личности, убеждений, развитых ходом продолжительной духовной жизни, оживленной, деятельной, богатой результатами; оставим им, по крайней мере, несколько идей, которые, хотя бы мы и не сами их нашли, переходя из одного поколения в другое, – тем не менее, они получат нечто, свойственное традиции, и тем самым приобретут некоторую силу, несколько большую способность приносить плод, чем это дано нашим собственным мыслям. Этим мы оказали бы услугу потомству и не прошли бы без всякой пользы свой земной путь.
«ПЕРЕСТРОЙКА»
Станислав Ежи Лец, польский писатель:
«Механизм диктатуры тоже не перпетуум-мобиле».
Борис Хазанов, философ, 70-е годы:
 «Существовали и, кажется, существуют до сих пор иллюзии, что этот порядок можно улучшить – смягчить или рационализировать, не меняя его по существу: технократические, экономические или правозащитно-демократические грезы. Но суть этого порядка состоит в том, что его невозможно реформировать. Потяните за ниточку – и зашатаются колонны. Выньте один кирпичик – и повалится все здание.
«Существовали и, кажется, существуют до сих пор иллюзии, что этот порядок можно улучшить – смягчить или рационализировать, не меняя его по существу: технократические, экономические или правозащитно-демократические грезы. Но суть этого порядка состоит в том, что его невозможно реформировать. Потяните за ниточку – и зашатаются колонны. Выньте один кирпичик – и повалится все здание.
Порядок есть порядок. В многонациональной стране он не дает вскипеть кровавой каше, в которую превратилось бы освободительное движение окраин, стоит только ослабнуть скрепам; …надлом столба, на котором держится вся исполинская пирамида, будет означать для огромного множества людей потерю всех средств к существованию, голод, развал, разгул на безбрежных осиротевших территориях. И вместе с тем мы чувствуем, мы чуем, как чуют близость гнилостной весны, как чувствуют приближение смерти, – безнадежную старость всего государственно-национального организма…
Подлинная трагедия состоит в том, что в этой стране, где все живое, смелое и самобытное душит неподвижная власть, где бездарные наставляют талантливых, старики притесняют молодых, мертвые правят живыми, слишком многим кажется, что такая власть необходима, так как она не дает вырваться наружу хаосу, царящему в душах. Что такое этот хаос, знает на частных, но незабываемых примерах каждый. Ужас перед народом – чувство, присущее не только верхушке, но, прежде всего, самому народу…»
Александр Яковлев, бывший секретарь ЦК КПСС по идеологии:
 «Сегодня много пишут о том, что непоследовательность и нерешительность М. Горбачева размывали авторитет преобразований и веру в них. …
«Сегодня много пишут о том, что непоследовательность и нерешительность М. Горбачева размывали авторитет преобразований и веру в них. …
Во многом, хотя и не во всем, преобразования были обречены на непоследовательность. Последовательный радикализм в первые годы перестройки погубил бы самую идею всеобъемлющих эволюционных реформ. Объединенный бунт аппаратов – партийного, государственного, репрессивного и хозяйственного – отбросил бы страну к худшим временам сталинизма… Об этом надо всегда помнить, иначе ошибки при анализе перестройки неизбежны. …
Никуда не уйти от той простой правды, что перестройку начал очень узкий круг в руководстве партии и государства, что именно по инициативе «аппаратчиков» высшего звена начался уход от сталинизма, а затем, вопреки аппарату, уход от так называемого «реального социализма». В то время не было организованной политической оппозиции существующему режиму, не было и серьезного массового сопротивления неограниченной власти КПСС. …
Перестройка в Советском Союзе, повторяю, началась внутри правящих партийных и государственных структур, и она могла заявить о себе только как инициатива, направленная на совершенствование социализма – на основе демократии, неискаженного прочтения марксизма-ленинизма, установления «истинной» социалистической и коммунистической идеи. …
…Мы пытались скрестить синицу с крокодилом, т. е. рынок с государственной монополией производства, с государственной торговлей, а большевизм – с демократией.
Конечно, это было известным топтанием на месте. Но шел одновременно и другой процесс. Благодаря гласности начались необратимые процессы в психологии людей. Они свыкались с новой реальностью, постепенно уходили из мира традиционного устройства общества в другой мир, в другие измерения жизни. Каждый день свободы и гласности… работал на реформы, углублял психологическую пропасть, отделяющую старое общество от нового.
В конечном счете то, что у нас произошло, является… революцией совести, этической революцией.
Но здесь, пожалуй, самое время для исповеди. Понятно, что большевизм лицемерен, двуличен, лжив. Но борьба с ним была бы обречена на провал, если бы она велась прямолинейно, била в лоб, презирала компромиссы, уступки и т. д. Такой путь был бы внешне честен… Но в конкретных условиях борьбы с большевизмом – эгоистичен. Приходилось лукавить, о чем-то умалчивать, хитрить, изворачиваться, но добиваться при этом таких целей, которые в «чистой» борьбе были бы недостижимы. …
Однако же главный этический принцип для меня лично с самого начала состоял в том, чтобы всеми мерами… избежать силового гражданского конфликта»
Андрей Грачев, бывший пресс-секретарь президента СССР, 2001 год:
 «Выбрать оптимальную скорость движения для общества, пребывавшего в глубокой спячке, точнее, намеренно погруженного его правителями в безопасный для них анабиоз, было, конечно же, непростой задачей. Требовалось подобрать начальную передачу, с которой можно было относительно плавно, без драматических рывков стронуть общество с места. …
«Выбрать оптимальную скорость движения для общества, пребывавшего в глубокой спячке, точнее, намеренно погруженного его правителями в безопасный для них анабиоз, было, конечно же, непростой задачей. Требовалось подобрать начальную передачу, с которой можно было относительно плавно, без драматических рывков стронуть общество с места. …
…Горбачев не хотел, чтобы страна, которую он надеялся приобщить к соучастию в его проекте, постоянно тащилась за инициаторами реформ на буксире. Отсюда частые остановки, оглядки на отстающих, стремление, как у сопровождающей стадо пастушьей собаки, обежать его, вернуться назад и удостовериться, что никто не отстал. …
Оправданием ему вполне могло служить почерпнутое из Библии изречение Иакова: «Я пойду медленно, как пойдет скот и как пойдут дети…» (Бытие: гл. 33. 14). Но было очевидно, что не только нетерпеливый авангард, но и значительная часть населения, разбуженного революцией обещаний, скорее, ждали от своего пастыря, что он поведет их на очередной «штурм неба», как обещал своим последователям Маркс, чем предложит унылую дальнюю дорогу. Попытка же Горбачева привести за собой в Землю Обетованную всех, готовность ради этого сдерживать нетерпеливых и подгонять отстающих вызывала неудовольствие и тех и других»
ГЛАС НАРОДА — 1988
Данные опросов, проведенных среди жителей Москвы Научно-исследовательским центром Советской социологической ассоциации АН СССР в ноябре–декабре 1988 года:
Направление политической реформы:
«Какой, на ваш взгляд, должна быть партия, руководящая нашим обществом?» ( % от числа опрошенных)
| Руководить обществом должна Коммунистическая партия, отражающая единую волю передовой части советского народа и, в первую очередь, рабочего класса | 22 |
| Руководство должна осуществлять КПСС, внутри которой должна быть свобода фракций и платформ на основе интересов и мнений различных категорий и слоев трудящихся | 17 |
| В стране желательно иметь несколько партий, и руководить обществом должна та из них, которая победит на свободных выборах | 6 |
Направление реформы собственности:
«Какова, на ваш взгляд, должна быть роль государства в управлении экономикой?» ( % от числа опрошенных)
| Вся экономическая деятельность в нашей стране должна осуществляться государством | 38 |
| Непосредственно государственными должны оставаться только наиболее важные сферы экономики, а остальные следует передать кооперативам, а также на арендный подряд | 36 |
| Государство должно отказаться от непосредственного руководства всеми сферами экономики и отраслями народного хозяйства | 9 |
Реформа Союза ССР:
«Каким бы вы хотели видеть будущее союзных республик?» ( % от числа опрошенных)
| Сохранение их нынешнего положения и статуса в составе СССР | 72 |
| Достижение ими значительно большей политической и экономической самостоятельности в рамках СССР | 18 |
| Полная самостоятельность в решении своей судьбы безо всяких ограничений | 6 |
О распределении доходов:
«Как вы считаете, какими у нас в стране могут быть доходы отдельных граждан?» ( % от числа опрошенных)
| Общество должно строго контролировать доходы таким образом, чтобы все его члены жили примерно в равных материальных условиях | 38 |
| Должны быть существенные различия в доходах в зависимости от количества и качества труда. Но они не должны быть чрезмерными. | 48 |
| Доходы могут быть любыми, если они получены законно | 8 |
Борис Хазанов, философ, 70-е годы:
 «О тоталитарном режиме обычно говорят, – и мы говорили, – что он превращает всех граждан в своих сообщников. Говоря о советском режиме, можно добавить, что он превратил своих граждан в иждивенцев. При этом оказывается, что иждивенцы – все. Это придает государству потусторонние черты, но этот призрак всегда с вами; …он везде, хотя его нигде не видно. Он недостижим и всесилен, все обязаны ему всем. Лозунги «спасибо нашему родному правительству», «спасибо партии» и т.п. не вполне лишены смысла: государство в самом деле кормит, поит и одевает своих подданных, тратит деньги на их обучение, вообще милостиво разрешает им жить, – и, разумеется, беспощадно третирует их. В этой стране, где каждый находится в неоплатном долгу перед родиной, то есть государством, люди беспомощны, как подростки… Огромное большинство населения отучено от самостоятельности, лишено сознания общих интересов, инстинкта солидарности и не знало бы, что ему делать со свободой, если бы свобода свалилась на него с небес
«О тоталитарном режиме обычно говорят, – и мы говорили, – что он превращает всех граждан в своих сообщников. Говоря о советском режиме, можно добавить, что он превратил своих граждан в иждивенцев. При этом оказывается, что иждивенцы – все. Это придает государству потусторонние черты, но этот призрак всегда с вами; …он везде, хотя его нигде не видно. Он недостижим и всесилен, все обязаны ему всем. Лозунги «спасибо нашему родному правительству», «спасибо партии» и т.п. не вполне лишены смысла: государство в самом деле кормит, поит и одевает своих подданных, тратит деньги на их обучение, вообще милостиво разрешает им жить, – и, разумеется, беспощадно третирует их. В этой стране, где каждый находится в неоплатном долгу перед родиной, то есть государством, люди беспомощны, как подростки… Огромное большинство населения отучено от самостоятельности, лишено сознания общих интересов, инстинкта солидарности и не знало бы, что ему делать со свободой, если бы свобода свалилась на него с небес
С недоумением прислушивается советский человек к смутным и искаженным известиям о волнениях в Польше; ему говорят, что они – результат заговора реакционных сил против польского народа, и он готов этому верить; его возмущает неблагодарность поляков, «за которых мы проливали кровь»; месте с тем он испытывает к ним что-то вроде зависти – и в любом случае понимает, что ничего подобного не может и не должно случиться в России. Инстинкт… подсказывает им, что без этого государства они не смогли бы ступить и шагу, рухни оно – и все они превратятся в толпу беспомощных потерявшихся детей»
ГОД 1991
Татьяна Иванова, публицист, весна 1991 года:
«Так мы сейчас совершаем покупки [в Москве]… «Магазин закрывается! – кричит продавщица. – Кто будет брать целый ящик, подходи!» Все несутся к ней: «Мы будем! Я! Дайте мне!» Никто не спрашивает, что в ящике – макароны, консервы, крупа, сгущенка, мыло… «Пятьдесят семь рублей готовьте!» – кричит продавщица. Ящик оказывается тяжеленный, не каждый из счастливцев может взять его на плечо: нетто 25 кг. И иероглифы вокруг. Притащили в редакцию, оказалось, китайская говядина. Разложили на полу, сбегали в соседний магазин за топором, стали делить на всех. Ох, стыдно, неловко… Ничего, сейчас везде так, на всех предприятиях, во всех учреждениях. Взвешивают, отмеривают, отмечают в тетрадочках, кто в прошлом месяце масло брал, кому в этом полагается»
Алексей Панкин, дипломат, сентябрь 1991 года:
 «Нам противостояла [в августе 1991 г.]… деморализованная, развалившаяся система, возглавляемая кучкой жалких людей, не сумевших сделать самые элементарные вещи.
«Нам противостояла [в августе 1991 г.]… деморализованная, развалившаяся система, возглавляемая кучкой жалких людей, не сумевших сделать самые элементарные вещи.
И в этом, собственно, мне видится спасительная миссия Горбачева. Ни на каком этапе перестройки он не имел сил для генерального сражения с номенклатурным комплексом и потому, подобно Кутузову.., тянул время, заманивал противника вглубь территории и предоставлял дело естественному ходу вещей. Он маневрировал, лавировал, шел на компромиссы, раскалывал, одерживал тактические победы и делал тактические уступки.
В последний год свалившееся на него бремя стало просто нечеловечески тяжелым. Давление номенклатуры, все больнее уязвляемой демократами, многократно возрастало. Но и либералы от него отвернулись. Судя по всему, Президент СССР уже не контролировал ни партию, ни армию, ни КГБ, ни МВД, ни ситуацию в стране. Он нервничал и много ошибался. И тем не менее, когда доходило до окончательных разборок, именно он каким-то непостижимым образом оказывался хозяином положения. Разбушевавшееся партийное руководство вдруг рабски выполняло команду «к ноге» и почти единодушно голосовало за ненавистного Горбачева; …презираемый армией Язов сохранял пост министра обороны, хотя на него претендовали куда более энергичные и популярные в войсках люди. Невзятым оставался литовский парламент. Во время февральской демонстрации в Москве, когда, судя по всему, на толпу уже должны были выйти танки, все ограничилось военными грузовиками, перегородившими улицы. А время шло, комплекс разлагался, и демократы получали все новые и новые отсрочки для собирания сил.
И когда номенклатура все же решилась,.. тут-то и обнаружился полный триумф линии Горбачева. Военно-бюрократическая гора, раздавившая не одну страну и пролившая океаны крови, в последний, решающий для себя момент родила даже не мышь, а тараканишку. Об этом не мешает помнить сегодня, в разгар ликования по поводу победы демократии. А то, глядишь, шмыгающий носом бонвиван Геннадий Иванович Янаев еще чего доброго вырастет до размеров былинного злодея.
Конечно, это страшно неприятный и унизительный для самолюбия народа путь… Но, похоже, при том состоянии того общества, которое досталось Горбачеву в 1985 году, при всей немыслимой сложности дремавших в нем конфликтов, при отсутствии знания о самом себе и почти поголовной некомпетентности,.. при абсурдной экономической системе этот дурацкий путь был куда более безболезненным, бескровным и в конечном счете безопасным для нас и для человечества, чем любой другой, более прямой»
Арвид Крон, публицист, Франция:
«…Как дорого стоили ему эти четыре года! Я не ожидал, что услышу столько раздраженных слов в его адрес, даже от интеллигенции, которая больше всех от него получила – и так мало ему помогла. «Вы там ничего не понимаете. Кричите: Горбачев, Горбачев! А у нас есть нечего!» Но, может быть, это вы не понимаете, что сделал Горбачев для нас – для Запада и для всего современного мира? Представляя себе западного человека окруженным комфортом и заманчивой техникой, вы не понимаете его давнего подспудного ужаса. Постарайтесь встать на его место, влезть в его шкуру, вообразить, чем еще недавно были для него – вы.
С 40-го года уходит на Восток страна за страной – и не возвращается.
С 40-го года перемещаются границы – всегда в одну сторону, на Запад. Упорно и неумолимо железный игрок передвигает свои фигуры вперед – везде, всюду, на всех континентах!
Восточных разведчиков выявляют в самом центре спецслужб. Вооружения СССР растут. Афганистан. Кажется, всему этому никогда не будет конца…
Я достаточно прожил с западными людьми, чтоб ощутить их ужас перед этим неумолимым, безжалостным давлением.
И вдруг стальная хватка ослабла – и исчезла! Вначале этому никто не верил. Этого не могло быть, потому что этого никогда не бывало. Но это произошло, и произошло благодаря Горбачеву – и Запад прав. До сих пор никто в СССР еще не сделал для остального мира ничего сопоставимого по значению»
Из прощального телевизионного выступления Президента СССР Михаила Горбачева, 25 декабря 1991 года:
«Ликвидирована тоталитарная система, лишившая страну возможности давно стать благополучной и процветающей.
Совершен прорыв на пути демократических преобразований. Реальными стали свободные выборы, свобода печати, религиозные свободы, представительные органы власти, многопартийность.
…Узаконена экономическая свобода производителя, и начали набирать силу предпринимательство, акционирование, приватизация.
Покончено с «холодной войной», остановлена гонка вооружений и безумная милитаризация страны, изуродовавшая нашу экономику, общественное сознание и мораль. Снята угроза мировой войны…
Народы, нации получили реальную свободу выбора пути своего самоопределения…»
Игорь Иртеньев
* * *
Ходил недолго в президентах
Михал Сергеич Горбачев.
Но был на разных континентах
Любим при этом горячо.
Простые люди всей планеты —
Я сам свидетелем тому —
Дарили мелкие предметы
На день рождения ему.
Он наихудшую систему
Из существующих систем
Разрушил, как тараном стену
До основанья, а затем
На радость порешил потомкам
Построить мир, где все равны,
Но тут придавлен был обломком
Той самой рухнувшей стены.
А дальше баррикады, танки,
Героев жуткое число…
Три дня трясло нас в лихоманке,
Но, слава Богу, пронесло.
А вскоре с гиканьем и плясом,
Под троекратное «ура»,
Смещен был лысый седовласым
По наущению двора.
Так и сошел со сцены Горби,
Так и покинул пьедестал.
Предметом всенародной скорби
Его уход отнюдь не стал.
И все ж сказать ему спасибо,
Хотя б подать ему пальто
Вполне мы, думаю, могли бы…
Да воспитание не то.
Василий Розанов, философ, 1918 год:
 «Социализм пройдет как дисгармония. Всякая дисгармония пройдет. А социализм – буря, дождь, ветер…
«Социализм пройдет как дисгармония. Всякая дисгармония пройдет. А социализм – буря, дождь, ветер…
Взойдет солнышко и осушит все. И будут говорить, как о высохшей росе: – «Неужели он (соц.) был?». «И барабанил в окна град: братство, равенство, свобода?»
– О, да! И еще скольких этот град побил!!
– Удивительно. Странное явление. Не верится. Где бы об истории его прочитать?»
Георгий Федотов, философ, историк, 1938 год:
 «Нет, решительно нет никаких разумных человеческих оснований представлять себе первый день России «после большевиков» как розовую зарю новой свободной жизни. Утро, которое займется над Россией после кошмарной революционной ночи, будет скорее туманное «седое утро»… И каким же другим может быть утро после убийства, после оргии титанических потуг и всякого дурмана, которым убийца пытался заглушить свою совесть? Утро расплаты, тоски, первых угрызений… После мечты о мировой гегемонии, о завоевании планетных миров, …о земном рае – у разбитого корыта бедности, отсталости, рабства – может быть, национального унижения. Седое утро…»
«Нет, решительно нет никаких разумных человеческих оснований представлять себе первый день России «после большевиков» как розовую зарю новой свободной жизни. Утро, которое займется над Россией после кошмарной революционной ночи, будет скорее туманное «седое утро»… И каким же другим может быть утро после убийства, после оргии титанических потуг и всякого дурмана, которым убийца пытался заглушить свою совесть? Утро расплаты, тоски, первых угрызений… После мечты о мировой гегемонии, о завоевании планетных миров, …о земном рае – у разбитого корыта бедности, отсталости, рабства – может быть, национального унижения. Седое утро…»
Виктор Кривулин, поэт, 1991 год:
«Впереди – реальность»
От «двух систем» – к единому миру
Коллапс плановой экономики. Вторая половина 1991 года была временем бурных политических событий и тяжелейшего экономического кризиса. Союзные органы власти формально еще сохранялись, но уже были бессильны хоть как-то повлиять на обстановку. Ставшие фактически самостоятельными республиканские власти срочно формировали собственные органы управления и пытались навести хотя бы элементарный порядок на своих территориях.
Экономическая система развалилась окончательно. Государственные предприятия и колхозы перестали подчиняться указаниям властей и отказывались отгружать свою продукцию партнерам и в госторговлю по государственным ценам. Покупательная способность рубля падала с каждым днем – отечественным деньгам уже никто не верил, и сделки заключались либо на доллары, а чаще бартером (товар на товар без денежных расчетов). Магазины стояли пустые, продукты из государственных запасов распределялись по карточкам. От голода многие семьи спасала только иностранная гуманитарная помощь. Государственная казна была пуста, в долг больше никто не давал.
Приказы уже не действовали, вновь «запустить» народное хозяйство можно было только экономической заинтересованностью. Для этого нужно было сделать предприятия во всех отношениях самостоятельными – какую продукцию им выпускать, у кого покупать сырье, кому продавать товар и по какой цене. Для этого нужно было остановить стремительное обесценивание отечественных денег, а значит остановить «печатный станок» Государственного банка, и удерживаться от соблазна пополнять казну «пустыми» банкнотами.
Это были тяжелые решения. Большинство предприятий не привыкли к жесткой экономии, не знали реальных цен, потребностей рынка, не имели информации о возможных поставщиках и покупателях, их руководителям еще предстояло освоить сложную и жесткую науку современного конкурентного рыночного хозяйства.
Сложность перехода к свободному рынку заключалась еще и в том, что советское государство десятилетиями развивало, в основном, те отрасли, которые нужны были ему самому, а не населению – потребности в огромном, колоссальном военно-промышленном комплексе и в обслуживающих его производствах отпали, и миллионам высококвалифицированных работников грозило теперь оказаться «на улице» (переход же на новые виды продукции не мог быть делом одного дня). Еще только предстояло наладить новую систему сбора государственных налогов, чтобы платить пенсии, зарплаты врачам, учителям, военным. И на все это нужно было время, время и время…
Было еще множество проблем – сложнейших для правительств и болезненных для населения, – которые громоздились одна на другую и требовали безотлагательных решений. Подобного опыта перехода огромной страны после шестидесяти лет тоталитаризма к демократии и свободному рынку в условиях политического хаоса еще не было. Легко было предсказать только одно – реформаторов на этом пути ждут острейшие социальные и политические конфликты. Решиться встать на него могло себе позволить только руководство, уверенное в себе и в поддержке большинства населения.
Борис Ельцин был единственным из руководителей союзных республик всенародно избранным президентом – доверие большинства населения дало ему возможность принимать очень непопулярные, но неизбежные меры. На ключевые посты в российское правительство он пригласил группу молодых экономистов во главе с Егором Гайдаром, – им было поручено перестроить экономическую жизнь страны на рыночный лад.
Развал СССР. Твердое намерение российского руководства «освободить» цены и резко сократить выпуск рублей (ходивших на территории всего СССР) неизбежно втягивало в эту болезненную для населения реформу и остальные республики «рублевой зоны». Но их лидеры еще не были готовы на такой шаг и надеялись как можно дольше оттянуть, «сгладить» рыночные реформы в своих республиках – их экономическое и государственное размежевание с Россией стало неизбежным.
8 декабря 1991 года в белорусской Беловежской Пуще руководители России, Украины и Белоруссии подписали соглашение о прекращении существования Союза Советских Социалистических Республик (СССР) и об образовании Содружества Независимых Государств (СНГ), в котором каждая республика обретала полную самостоятельность – со своей денежной системой, государственной границей, армией и т. д. Вскоре к СНГ присоединились и другие республики бывшего СССР (кроме государств Балтии, которые предпочли отказаться даже от тени своей былой зависимости).
1992 год. 2 января правительство объявило о своем отказе назначать цены на подавляющее большинство товаров. Экономическая реформа началась.
То, что происходило в ближайшие несколько месяцев, получило название «шоковой терапии». Товаров первое время особо не прибавилось, но цены!..
Советский человек привык, что магазинная цена – штука настолько постоянная и незыблемая, что на товарах, на которых это было возможно, завод-изготовитель оттискивал ее в металле, «на века». Для покупателей постоянные скачки цен в 5, 10, 100 раз стали настоящим потрясением.
Деньги, получаемые на работе в начале месяца, уже мало чего стоили в последних его числах. Зарплаты и пенсии росли, но за ростом цен они все равно не поспевали – жизненный уровень (по сравнению с недавними годами) резко упал. Новые отношения между предприятиями налаживались медленно, «со скрипом» – директора еще надеялись на государственные денежные вливания. А тем временем российский рынок успешно завоевывали импортные товары, что было хорошо для покупателя, но плохо для отечественного производителя (которыми, впрочем, одновременно был один и тот же россиянин). Правительство в своей денежной политике шло буквально по лезвию ножа: придержишь «печатный станок» – доходы населения слишком опасно отстают от роста цен; чуть больше выдашь средств останавливающимся предприятиям – обесценивается рубль, снижая покупательную способность населения.
Охотников занять место главы правительства осенью 1991 года, мягко говоря, было немного – оппозиционные Ельцину силы предпочитали выжидать. Но, когда первые решительные шаги реформы были сделаны, сразу же началась массированная атака на президента и его правительство со стороны большинства Съезда народных депутатов РФ и его Верховного Совета с целью отстранения их от власти. В оппозиции объединились депутаты от компартии, стремившейся восстановить свои командные высоты в государстве, оскорбленные распадом Союза «патриоты-имперцы», а также многие вчерашние сторонники обновления страны, которым трудно было принять слишком высокую, по их ощущениям, «цену» реформ (не имея собственных рецептов выхода из кризиса, они говорили про себя: «мы не врачи, мы – боль!»).
Спор между президентом и Съездом не мог быть разрешен законным, конституционным путем. Дело в том, что по тогдашней конституции, президент обладал всей полнотой исполнительной власти, но в то же время и Съезд народных депутатов также имел право рассматривать и решать любой вопрос в государстве (Съезд был остатком прежней – с о в е т с к о й – власти, не знавшей разделения на исполнительную и законодательную независимые ветви). Зачастую получалось так, что обе власти принимали по одному и тому же вопросу противоположные решения и оба они оказывались законными и обязательными для исполнения! Такая ситуация постоянно грозила расколом государства и общества, что в тогдашней наэлектризованной атмосфере могло привести даже к гражданской войне.
Политическое равновесие сохранялось до поры до времени только взаимными компромиссами и соглашениями. Стремясь «умиротворить» депутатов, президент отправил в отставку ненавидимого большинством Гайдара и предложил на выбор несколько кандидатов на должность главы правительства. Съезд избрал «крепкого хозяйственника»-практика Виктора Черномырдина, до этого критиковавшего жесткую финансовую политику Гайдара. Однако, сменив кресло отраслевого министра на пост главы правительства, отвечающего за всю экономику в целом, Виктор Степанович не увидел иного пути, как продолжить курс своего предшественника (строгая экономия бюджетных расходов, приватизация госпредприятий и т. д.).
Конституционный кризис. Съезд народных депутатов и Верховный Совет все упорнее блокировали большинство важных решений исполнительной власти. Президентская «команда» вместе с представителями многих партий и общественных организаций приступила к разработке новой конституции, в которой уже не было места полновластным Советам. Съезд попытался отрешить президента от должности, но набрать необходимое для этого большинство голосов депутатов не удалось.
В апреле 1992 года состоялся всенародный референдум о доверии президенту и Съезду. В список его вопросов депутаты добавили самый «больной» пункт об отношении избирателей к проводимой экономической политике. Результаты референдума оказались во многом неожиданными: доверие было выражено и президенту, и Съезду, и при этом большинство проголосовало за одобрение экономического курса, несмотря на все его тяготы (они, однако, уже стали компенсироваться полными – как никогда при «социализме»! – прилавками). Мнение населения было выражено достаточно ясно – гражданский мир, сотрудничество властей и продолжение рыночных реформ.
Однако, как показали дальнейшие события, примирение Советов и президента на основе продолжения реформ оказалось невозможным. Обе стороны готовились к решающей открытой схватке за власть.
21 сентября в своем выступлении по телевидению Ельцин заявил о прекращении полномочий Съезда народных депутатов и о будущем всенародном референдуме по принятию новой конституции (до ее утверждения временно вводилось прямое президентское правление). Большинство депутатов отказалось сложить свои полномочия и объявило президента Ельцина низложенным. В «Белом доме» началось вооружение его новых защитников.
Резиденция Верховного Совета была окружена цепью невооруженных милиционеров. «Война нервов», противостояние в центре Москвы чуть не вылилось в гражданскую войну. 3 октября сторонники советской власти прорвали оцепление, захватили соседнее здание столичной мэрии, их многочисленный отряд попытался с боем захватить телецентр Останкино. Так же многочисленные, сторонники президента окружили баррикадами центр города, всю ночь жгли костры, готовясь отразить атаку своих противников.
Под утро 4 октября в город вошли армейские части – «Белый дом» был блокирован и в упор, демонстративно расстрелян из танковых орудий. Так, через 76 лет, окончила свое существование в России советская власть. ФОТО
Новое политическое устройство. Принятая на референдуме новая российская Конституция закрепила разделение и независимость друг от друга законодательной, исполнительной и судебной властей. Установленная ею политическая система напоминала дореволюционную – Государственная Дума, принимающая законы и бюджет, Совет федерации из представителей областей и автономий, утверждающий решения Думы, и президент, также имеющий право не утвердить решение нижней палаты парламента. Вполне в российских традициях Конституция дала весьма широкие полномочия сильной исполнительной власти.
Только президент может предложить на утверждение Думы кандидатуру премьер-министра, и если депутаты трижды голосуют против выдвинутого кандидата (или кандидатов), то глава государства имеет право распустить Думу и назначить новые выборы. Если законодатели решат выразить недоверие действующему составу правительства, то опять же решает президент: отправить в отставку правительство или распустить Думу.
Самого президента отстранить от должности можно лишь посредством долгой и трудной юридической процедуры – реально для этого требуются не только серьезные основания, но и почти полное единодушие обеих палат Законодательного собрания и Конституционного суда.
Выборы в первую Государственную Думу прошли в декабре 1993 г. Экономические трудности и недавние кровавые события в столице сказались на их результатах: наиболее близкая президенту «партия власти» не сумела набрать большинства мест в новом российском парламенте. Крупнейшими думскими фракциями обладали ЛДПР Владимира Жириновского, которая собирала голоса люмпенизированных слоев населения, и компартия, лидер которой Геннадий Зюганов выступал с требованиями свергнуть «антинародный режим» и отдать «банду Ельцина» под суд. Понятно, что при таком составе парламента отношения между Думой и правительством все эти годы были далеко не идиллическими.
Но какие бы разногласия ни возникали между исполнительной и законодательной властью, в рамках новой конституции они уже не грозили самому существованию молодой российской государственности. Страна отодвинулась от той опасной черты, за которой политические споры начинают разрешаться с оружием в руках.
Цена гражданского мира. Выборы 1993 и 1995 годов показали, что российские граждане имеют диаметрально противоположные представления о желательном устройстве своей страны, и лишь меньшинство из них стремится продолжать двигаться к рыночной экономике и либеральной демократии. Поэтому проведение многих важнейших реформ – судебной, военной, земельной, образовательной и т. д. – было в 90-е годы фактически заблокировано. Фактически ни одна серьезная реформа из тех, что намечались в начале 90-х, так и не была проведена в жизнь.
Чечня. Очень сложной и тяжелой оказалась проблема целостности многонациональной Российской Федерации. В результате долгих переговоров центральное правительство уладило спорные вопросы с руководством национальных автономий, которые получили широкие права внутреннего самоуправления. Исключением стала Чечня – ее лидеры наотрез отказались от каких-либо компромиссов и в одностороннем порядке провозгласили полную государственную независимость своей республики. Конституция РФ не предусматривает законной возможности такого государственного отделения, поэтому после провала попыток переговоров центральная власть решила применить силу – в декабре 1994 года в Чечню были введены войска. Однако армия встретила там ожесточенное сопротивление вооруженного ополчения сепаратистов и враждебное отношение значительной части населения.
Несколько недель продолжался кровопролитный штурм Грозного, прежде чем федеральным войскам удалось овладеть его руинами.
В поле боя превратилась практически вся территория республики. Регулярная армия, не приспособленная к ведению антипартизанской борьбы, несла тяжелые потери, а применение ею тяжелых видов оружия приводило к многочисленным жертвам среди мирного населения. Психологический шок по всей России вызвали террористические рейды чеченских полевых командиров в Ставрополье и Дагестан с убийствами и массовым захватом заложников.
Война с самого начала была в России крайне непопулярной – большинство населения мало что знало о положении в Чечне и плохо понимало смысл затянувшегося кровопролития. Ельцин оказался под огнем жесткой критики со всех сторон – как раз накануне очередных президентских выборов.
Летом 1996 года российским избирателям предстояло выбрать – продолжение проводимого Ельциным курса или «возвращение в прошлое» под руководством президента-коммуниста. По итогам выборов было объявлено, что в борьбе с кандидатом блока левых сил Геннадием Зюгановым Борис Ельцин одержал победу и сохранил пост главы государства на второй срок. Сразу после выборов военные действия в Чечне были прекращены и подписаны мирные соглашения. Чечня фактически получала независимость, а вопрос о ее юридическом статусе откладывался на будущее.
1996 – 1999 годы. Второй срок президентства Бориса Ельцина не был отмечен ни какими-либо серьезными политическими потрясениями, ни целенаправленными реформами. Проводившаяся экономическая политика была относительно приемлема и для умеренных коммунистов, и для не слишком требовательных либералов. Приватизация постепенно продолжалась, инфляция и падение производства были остановлены – самые жгучие проблемы начального этапа экономических реформ, казалось, были решены и наступила относительная стабильность.
На самом деле этой стабильности добились не за счет реального оздоровления экономики, а с помощью весьма рискованного и не очень честного способа затыкать «бреши» в государственном бюджете. Правительство занимало деньги у своих граждан и иностранцев на короткий срок и под высокие проценты, которые выплачивались за счет новых займов – другими словами, строило настоящую финансовую «пирамиду». Таким образом оно надеялось «как-нибудь» продержаться до тех пор, пока не начнется экономический рост – считалось, что при отсутствии инфляции и твердом рубле долго ждать этого не придется. Однако играть на деньги с государством при таких условиях было выгоднее, чем пытаться что-то производить – рост все не начинался, и вдобавок упали мировые цены на нефть…
Новых займов уже не хватало на уплату процентов по старым долгам. Правительство попыталось спасти государство от банкротства, а национальную валюту от обвала, но предложенные им жесткие меры строжайшей экономии государственных расходов были Думой отвергнуты. Было объявлено о государственной неплатежеспособности (дефолте).
Финансовый кризис, начавшийся в августе 1998 года, привел к резкому падению курса рубля, банкротству множества частных банков и их вкладчиков – обманчивой стабильности пришел конец. Покупательная способность зарплат и пенсий за считанные дни снизилась вдвое-втрое, власти многих городов опять обратились к подзабытому уже контролю за ценами на основные продукты питания, население сметало с магазинных полок еще не успевшие подорожать товары. Казалось, все экономические достижения 90-х годов в одночасье исчезли, страна отброшена на много лет назад. Министры нового, «левого» правительства заговорили о пересмотре результатов приватизации, об ограничении хождения иностранной валюты, о необходимости восстановить государственное управление экономикой…
Однако положение стало выправляться: значительно вздорожавший в России доллар сделал невыгодным завоз в страну иностранных товаров и, таким образом, финансовый кризис сделал более выгодным отечественное производство (оплачиваемое «дешевыми» рублями). В конце 1998 года в России, впервые за десять лет, начался-таки экономический рост, продолжившийся до конца века.
Восемь лет президентства превратили крепкого и бодрого Ельцина в тяжело больного человека. 31 декабря 1999 года он досрочно покинул свой пост, оставив до новых выборов во главе страны назначенного за полгода до этого премьер-министра Владимира Путина.
Эпоха, уходящая в историю. Оценивать «эпоху Ельцина» хотя бы с минимальной степенью беспристрастности можно будет еще не скоро. Пока же первое десятилетие без СССР многие вспоминают, прежде всего, как время неприятных открытий и разочарований.
Первым массовым разочарованием был рынок. «Рыночная экономика сделает всех богатыми – будем жить, как на Западе», – думали раньше. Через год после либерализации цен так уже не думал никто. Оказалось, что свободой зарабатывать деньги в первую очередь воспользовались люди, не испытывающие трепета перед законом и готовые ради обогащения на все. Еще оказалось, что проще всего делать деньги «из воздуха» – а труднее всего зарабатывать их производством нужных людям товаров. Новорожденный российский рынок в первую очередь привлек всякого рода «комбинаторов», имеющих доступ в правительственные кабинеты, рэкетиров и тому подобную публику.
Директора промышленных предприятий разочаровались сильнее всех. В советские времена, когда государство отбирало весь произведенный продукт, многим из них казалось, что если бы им разрешили самим торговать своей продукцией, да еще и цены самим назначать, то предприятия бы процветали. В эпоху тотального дефицита трудно было вообразить, что этот их «дефицит» вдруг может стать никому не нужным. Поэтому в 1992 году владельцы товара стремились «взвинтить» цены как можно выше – и их легко вытесняли с рынка заграничные конкуренты. Лишь через несколько лет, став частными собственниками, отечественные организаторы производства более или менее освоились в рыночной стихии, научившись не только производить, но и торговать. После обвала рубля 1998 года и резкого вздорожания импорта российская промышленность не упустила своего шанса и быстро заполнила освободившуюся нишу.
Но до производственного «бума» было еще далеко. Многие экономисты стали понимать, что даже самой правильной кредитно-финансовой политикой экономического расцвета страны не обеспечишь. Рынок тем и отличается от командной экономики, что он гораздо больше зависит от человеческих качеств его участников, и одного только страстного стремления обогатиться тут мало…
К середине 90-х годов стало массовым и разочарование в демократии. Оказалось, что новые демократически избранные власти вряд ли лучше старых. Молодые и симпатичные «демократы» быстро теряли свой революционный пыл, газеты полнились слухами об их сомнительных делишках и темных денежных махинациях. Бывшие секретари райкомов и горкомов восстанавливали пошатнувшийся авторитет и занимали – путем демократических выборов – руководящие посты в новом государстве. Спустя 10 лет после гибели СССР более 90% российских чиновников – по-прежнему выходцы из рядов старой партийной номенклатуры. При этом многие люди вовсе перестали ходить на выборы, не видя в том большого смысла.
Дольше других не наступало разочарование в свободе прессы – вера в журналистов, которые могут предать гласности злоупотребления властей и помочь простому человеку в трудной ситуации, была унаследована с советских времен и держалась прочно. Но сохранить астрономические тиражи, достигнутые в годы «гласности», российской прессе не удалось – слишком сильно упали доходы населения в начале 90-х годов. Оборотной стороной свободы слова оказалась необходимость бороться за выживание в условиях жесткой рыночной конкуренции – и облик российских СМИ стремительно изменился. Из рупора государственной идеологии они превратились в зеркало общественных настроений, иллюзий и разочарований, а политики скоро научились использовать их как орудие своих интриг. Независимые издания искали и находили себе «спонсоров» среди богатых бизнесменов, и нередко это заметно отражалось на их позиции. Читатели вынуждены были учиться отличать непредвзятую информацию от «заказных» материалов. Образ честного журналиста – борца за правду и свободу – таял на глазах.
В середине 90-х годов в России, как и почти во всех бывших социалистических странах, началась всеобщая ностальгия по «потерянному раю» СССР, по «твердой руке» и «порядку» – пусть и ценой ограничения свободы.
Читать дальше:
КОЛЛАПС. Бывают такие запредельно тяжелые ситуации, когда буквально любое действие или даже движение неминуемо ведет к еще большему ухудшению; когда ухудшение таким образом доходит до мыслимого предела, и не остается никаких способов вернуться к первоначальному состоянию. Такое положение называется коллапсом.
В состояние психологического и даже физического коллапса может впасть человек под влиянием страшных и неотвратимых ударов судьбы (при этом он почти полностью «отключается» от враждебного и неумолимого окружающего мира).
До состояния экономического коллапса дошло народное хозяйство СССР к концу 1991 года.
Некоторые звезды наращивают такую огромную массу, что собственная сила притяжения не выпускает вовне даже световое излучение, и звезда превращается в коллапсар — невидимую «черную дыру».