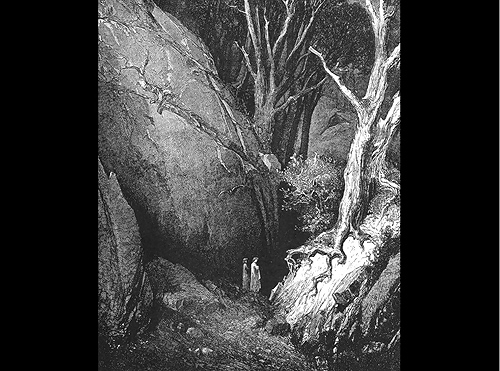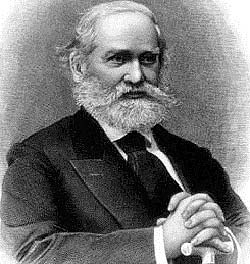Он был из древней, уважаемой во Флоренции семьи, навсегда изгнанный из родного, любимого города в результате жестокой борьбы между партиями. Мыслитель и поэт, постоянно ищущий принципиальной основы всему, что происходило вокруг него и в нем самом. Страстной душой, безграничным воображением он создал потусторонний мир, который мы до сих пор называем «Дантовым Адом». И когда он проходил по улице, прохожие, узнавая его, шарахались в стороны от его будто опаленного неведомым огнем лица — «Он был в Аду!»
ПЕСНЬ ПЕРВАЯ
Земную жизнь пройдя до половины, Я очутился в сумрачном лесу, Утратив правый путь во тьме долины.
Каков он был, о, как произнесу, Тот дикий лес, дремучий и грозящий, Чей давний ужас в памяти несу! Так горек он, что смерть едва ль не слаще. Но, благо в нем обретши навсегда, Скажу про все, что видел в этой чаще. Не помню сам, как я вошел туда, Настолько сон меня опутал ложью, Когда я сбился с верного следа. Но к холмному приблизившись подножью, Которым замыкался этот дол, Мне сжавший сердце ужасом и дрожью, Я увидал, едва глаза возвел, Что свет планеты, всюду путеводной, Уже на плечи горные сошел. Тогда вздохнула более свободной И долгий страх превозмогла душа, Измученная ночью безысходной.
И словно тот, кто, тяжело дыша, На берег выйдя из пучины пенной, Глядит назад, где волны бьют, страша, Так и мой дух, бегущий и смятенный, Вспять обернулся, озирая путь, Всех уводящий к смерти предреченной. Когда я телу дал передохнуть, Я вверх пошел, и мне была опора В стопе, давившей на земную грудь. И вот, внизу крутого косогора, Проворная и вьющаяся рысь, Вся в ярких пятнах пестрого узора.
 Она, кружа, мне преграждала высь,
И я не раз на крутизне опасной
Возвратным следом помышлял спастись.
Был ранний час, и солнце в тверди ясной
Сопровождали те же звезды вновь,
Что в первый раз, когда их сонм прекрасный
Божественная двинула Любовь.
Доверясь часу и поре счастливой,
Уже не так сжималась в сердце кровь
При виде зверя с шерстью прихотливой;
Но, ужасом опять его стесня,
Навстречу вышел лев с подъятой гривой.
Он наступал как будто на меня,
От голода рыча освирепело
И самый воздух страхом цепеня.
И с ним волчица, чье худое тело,
Казалось, все алчбы в себе несет;
Немало душ из-за нее скорбело.
Меня сковал такой тяжелый гнет,
Перед ее стремящим ужас взглядом,
Что я утратил чаянье высот.
И как скупец, копивший клад за кладом,
Когда приблизится пора утрат,
Скорбит и плачет по былым отрадам,
Так был и я смятением объят,
За шагом шаг волчицей неуемной
Туда теснимый, где лучи молчат.
Пока к долине я свергался темной,
Какой-то муж явился предо мной,
От долгого безмолвья словно томный.
Его узрев среди пустыни той:
«Спаси, — воззвал я голосом унылым, —
Будь призрак ты, будь человек живой!»
Он отвечал: «Не человек; я был им;
Я от ломбардцев низвожу мой род,
И Мантуя была их краем милым.
Рожден sub Julio, хоть в поздний год,
Я в Риме жил под Августовой сенью,
Когда еще кумиры чтил народ.
Я был поэт и вверил песнопенью,
Как сын Анхиза отплыл на закат
От гордой Трои, преданной сожженью.
Но что же к муке ты спешишь назад?
Что не восходишь к выси озаренной,
Началу и причине всех отрад?»
«Так ты Вергилий, ты родник бездонный,
Откуда песни миру потекли? —
Ответил я, склоняя лик смущенный. —
О честь и светоч всех певцов земли,
Уважь любовь и труд неутомимый,
Что в свиток твой мне вникнуть помогли!
Ты мой учитель, мой пример любимый;
Лишь ты один в наследье мне вручил
Прекрасный слог, везде превозносимый.
Смотри, как этот зверь меня стеснил!
О вещий муж, приди мне на подмогу,
Я трепещу до сокровенных жил!»
«Ты должен выбрать новую дорогу, —
Он отвечал мне, увидав мой страх, —
И к дикому не возвращаться логу;
Волчица, от которой ты в слезах,
Всех восходящих гонит, утесняя,
И убивает на своих путях;
Она такая лютая и злая,
Что ненасытно будет голодна,
Вслед за едой еще сильней алкая.
Она, кружа, мне преграждала высь,
И я не раз на крутизне опасной
Возвратным следом помышлял спастись.
Был ранний час, и солнце в тверди ясной
Сопровождали те же звезды вновь,
Что в первый раз, когда их сонм прекрасный
Божественная двинула Любовь.
Доверясь часу и поре счастливой,
Уже не так сжималась в сердце кровь
При виде зверя с шерстью прихотливой;
Но, ужасом опять его стесня,
Навстречу вышел лев с подъятой гривой.
Он наступал как будто на меня,
От голода рыча освирепело
И самый воздух страхом цепеня.
И с ним волчица, чье худое тело,
Казалось, все алчбы в себе несет;
Немало душ из-за нее скорбело.
Меня сковал такой тяжелый гнет,
Перед ее стремящим ужас взглядом,
Что я утратил чаянье высот.
И как скупец, копивший клад за кладом,
Когда приблизится пора утрат,
Скорбит и плачет по былым отрадам,
Так был и я смятением объят,
За шагом шаг волчицей неуемной
Туда теснимый, где лучи молчат.
Пока к долине я свергался темной,
Какой-то муж явился предо мной,
От долгого безмолвья словно томный.
Его узрев среди пустыни той:
«Спаси, — воззвал я голосом унылым, —
Будь призрак ты, будь человек живой!»
Он отвечал: «Не человек; я был им;
Я от ломбардцев низвожу мой род,
И Мантуя была их краем милым.
Рожден sub Julio, хоть в поздний год,
Я в Риме жил под Августовой сенью,
Когда еще кумиры чтил народ.
Я был поэт и вверил песнопенью,
Как сын Анхиза отплыл на закат
От гордой Трои, преданной сожженью.
Но что же к муке ты спешишь назад?
Что не восходишь к выси озаренной,
Началу и причине всех отрад?»
«Так ты Вергилий, ты родник бездонный,
Откуда песни миру потекли? —
Ответил я, склоняя лик смущенный. —
О честь и светоч всех певцов земли,
Уважь любовь и труд неутомимый,
Что в свиток твой мне вникнуть помогли!
Ты мой учитель, мой пример любимый;
Лишь ты один в наследье мне вручил
Прекрасный слог, везде превозносимый.
Смотри, как этот зверь меня стеснил!
О вещий муж, приди мне на подмогу,
Я трепещу до сокровенных жил!»
«Ты должен выбрать новую дорогу, —
Он отвечал мне, увидав мой страх, —
И к дикому не возвращаться логу;
Волчица, от которой ты в слезах,
Всех восходящих гонит, утесняя,
И убивает на своих путях;
Она такая лютая и злая,
Что ненасытно будет голодна,
Вслед за едой еще сильней алкая.
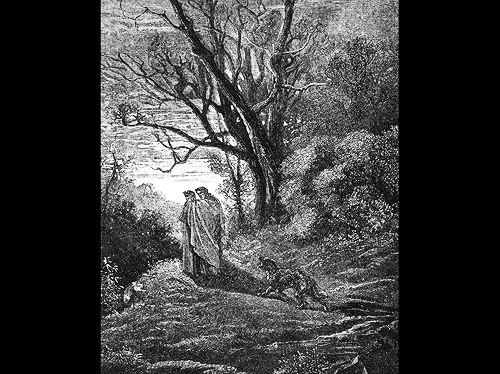 Со всяческою тварью случена,
Она премногих соблазнит, но славный
Нагрянет Пес, и кончится она.
Не прах земной и не металл двусплавный,
А честь, любовь и мудрость он вкусит,
Меж войлоком и войлоком державный.
Италии он будет верный щит,
Той, для которой умерла Камилла,
И Эвриал, и Турн, и Нис убит.
Свой бег волчица где бы ни стремила,
Ее, нагнав, он заточит в Аду,
Откуда зависть хищницу взманила.
И я тебе скажу в свою чреду:
Иди за мной, и в вечные селенья
Из этих мест тебя я приведу,
И ты услышишь вопли исступленья
И древних духов, бедствующих там,
О новой смерти тщетные моленья;
Потом увидишь тех, кто чужд скорбям
Среди огня, в надежде приобщиться
Когда-нибудь к блаженным племенам.
Но если выше ты захочешь взвиться,
Тебя душа достойнейшая ждет:
С ней ты пойдешь, а мы должны проститься;
Царь горних высей, возбраняя вход
В свой город мне, врагу его устава,
Тех не впускает, кто со мной идет.
Он всюду царь, но там его держава;
Там град его, и там его престол;
Блажен, кому открыта эта слава!»
«О мой поэт, — ему я речь повел, —
Молю Творцом, чьей правды ты не ведал:
Чтоб я от зла и гибели ушел,
Яви мне путь, о коем ты поведал,
Дай врат Петровых мне увидеть свет
И тех, кто душу вечной муке предал».
Он двинулся, и я ему вослед.
Со всяческою тварью случена,
Она премногих соблазнит, но славный
Нагрянет Пес, и кончится она.
Не прах земной и не металл двусплавный,
А честь, любовь и мудрость он вкусит,
Меж войлоком и войлоком державный.
Италии он будет верный щит,
Той, для которой умерла Камилла,
И Эвриал, и Турн, и Нис убит.
Свой бег волчица где бы ни стремила,
Ее, нагнав, он заточит в Аду,
Откуда зависть хищницу взманила.
И я тебе скажу в свою чреду:
Иди за мной, и в вечные селенья
Из этих мест тебя я приведу,
И ты услышишь вопли исступленья
И древних духов, бедствующих там,
О новой смерти тщетные моленья;
Потом увидишь тех, кто чужд скорбям
Среди огня, в надежде приобщиться
Когда-нибудь к блаженным племенам.
Но если выше ты захочешь взвиться,
Тебя душа достойнейшая ждет:
С ней ты пойдешь, а мы должны проститься;
Царь горних высей, возбраняя вход
В свой город мне, врагу его устава,
Тех не впускает, кто со мной идет.
Он всюду царь, но там его держава;
Там град его, и там его престол;
Блажен, кому открыта эта слава!»
«О мой поэт, — ему я речь повел, —
Молю Творцом, чьей правды ты не ведал:
Чтоб я от зла и гибели ушел,
Яви мне путь, о коем ты поведал,
Дай врат Петровых мне увидеть свет
И тех, кто душу вечной муке предал».
Он двинулся, и я ему вослед.
ПЕСНЬ ВТОРАЯ День уходил, и неба воздух темный Земные твари уводил ко сну От их трудов; лишь я один, бездомный, Приготовлялся выдержать войну И с тягостным путем, и с состраданьем, Которую неложно вспомяну. О Музы, к вам я обращусь с воззваньем! О благородный разум, гений свой Запечатлей моим повествованьем! Я начал так: «Поэт, вожатый мой, Достаточно ли мощный я свершитель, Чтобы меня на подвиг звать такой? Ты говоришь, что Сильвиев родитель, Еще плотских не отрешась оков, Сходил живым в бессмертную обитель. Но если поборатель всех грехов К нему был благ, то, рассудив о славе Его судеб, и кто он, и каков, Его почесть достойным всякий вправе: Он, избран в небе света и добра, Стал предком Риму и его державе, А тот и та, когда пришла пора, Святой престол воздвигли в мире этом Преемнику верховного Петра. Он на своем пути, тобой воспетом, Был вдохновлен свершить победный труд, И папский посох ныне правит светом. Там, вслед за ним. Избранный был Сосуд, Дабы другие укрепились в вере, Которою к спасению идут. А я? На чьем я оснуюсь примере? Я не апостол Павел, не Эней, Я не достоин ни в малейшей мере. И если я сойду в страну теней, Боюсь, безумен буду я, не боле. Ты мудр; ты видишь это все ясней». И словно тот, кто, чужд недавней воле И, передумав в тайной глубине, Бросает то, что замышлял дотоле, Таков был я на темной крутизне, И мысль, меня прельстившую сначала, Я, поразмыслив, истребил во мне. «Когда правдиво речь твоя звучала, Ты дал смутиться духу своему, — Возвышенная тень мне отвечала. — Нельзя, чтоб страх повелевал уму; Иначе мы отходим от свершений, Как зверь, когда мерещится ему. Чтоб разрешить тебя от опасений, Скажу тебе, как я узнал о том, Что ты моих достоин сожалений. Из сонма тех, кто меж добром и злом, Я женщиной был призван столь прекрасной, Что обязался ей служить во всем. Был взор ее звезде подобен ясной; Ее рассказ струился не спеша, Как ангельские речи, сладкогласный: О, мантуанца чистая душа, Чья слава целый мир объемлет кругом И не исчезнет, вечно в нем дыша, Мой друг, который счастью не был другом, В пустыне горной верный путь обресть Отчаялся и оттеснен испугом. Такую в небе слышала я весть; Боюсь, не поздно ль я помочь готова, И бедствия он мог не перенесть. Иди к нему и, красотою слова И всем, чем только можно, пособя, Спаси его, и я утешусь снова. Я Беатриче, та, кто шлет тебя; Меня сюда из милого мне края Свела любовь; я говорю любя. Тебя не раз, хваля и величая, Пред Господом мой голос назовет. Я начал так, умолкшей отвечая: «Единственная ты, кем смертный род Возвышенней, чем всякое творенье, Вмещаемое в малый небосвод, Тебе служить — такое утешенье, Что я, свершив, заслуги не приму; Мне нужно лишь узнать твое веленье. Но как без страха сходишь ты во тьму Земного недра, алча вновь подняться К высокому простору твоему?» «Когда ты хочешь в точности дознаться, Тебе скажу я, — был ее ответ, — Зачем сюда не страшно мне спускаться. Бояться должно лишь того, в чем вред Для ближнего таится сокровенный; Иного, что страшило бы, и нет. Меня такою создал царь вселенной, Что вашей мукой я не смущена И в это пламя нисхожу нетленной. Есть в небе благодатная жена; Скорбя о том, кто страждет так сурово, Судью склонила к милости она. Потом к Лючии обратила слово И молвила: — Твой верный — в путах зла, Пошли ему пособника благого. — Лючия, враг жестоких, подошла Ко мне, сидевшей с древнею Рахилью, Сказать: — Господня чистая хвала, О Беатриче, помоги усилью Того, который из любви к тебе Возвысился над повседневной былью. Или не внемлешь ты его мольбе? Не видишь, как поток, грознее моря, Уносит изнемогшего в борьбе? — Никто поспешней не бежал от горя И не стремился к радости быстрей, Чем я, такому слову сердцем вторя, Сошла сюда с блаженных ступеней, Твоей вверяясь речи достохвальной, Дарящей честь тебе и внявшим ей». Так молвила, и взор ее печальный, Вверх обратясь, сквозь слезы мне светил И торопил меня к дороге дальней. Покорный ей, к тебе я поспешил; От зверя спас тебя, когда к вершине Короткий путь тебе он преградил. Так что ж? Зачем, зачем ты медлишь ныне? Зачем постыдной робостью смущен? Зачем не светел смелою гордыней, — Когда у трех благословенных жен Ты в небесах обрел слова защиты И дивный путь тебе предвозвещен?» Как дольный цвет, сомкнутый и побитый Ночным морозом, — чуть блеснет заря, Возносится на стебле, весь раскрытый, Так я воспрянул, мужеством горя; Решимостью был в сердце страх раздавлен. И я ответил, смело говоря: «О, милостива та, кем я избавлен! И ты сколь благ, не пожелавший ждать, Ее правдивой повестью наставлен! Я так был рад словам твоим внимать И так стремлюсь продолжить путь начатый, Что прежней воли полон я опять. Иди, одним желаньем мы объяты: Ты мой учитель, вождь и господин!» Так молвил я; и двинулся вожатый, И я за ним среди глухих стремнин.
ПЕСНЬ ТРЕТЬЯ Я УВОЖУ К ОТВЕРЖЕННЫМ СЕЛЕНЬЯМ, Я УВОЖУ СКВОЗЬ ВЕКОВЕЧНЫЙ СТОН, Я УВОЖУ К ПОГИБШИМ ПОКОЛЕНЬЯМ. БЫЛ ПРАВДОЮ МОЙ ЗОДЧИЙ ВДОХНОВЛЕН: Я ВЫСШЕЙ СИЛОЙ, ПОЛНОТОЙ ВСЕЗНАНЬЯ И ПЕРВОЮ ЛЮБОВЬЮ СОТВОРЕН. ДРЕВНЕЙ МЕНЯ ЛИШЬ ВЕЧНЫЕ СОЗДАНЬЯ, И С ВЕЧНОСТЬЮ ПРЕБУДУ НАРАВНЕ. ВХОДЯЩИЕ, ОСТАВЬТЕ УПОВАНЬЯ. Я, прочитав над входом, в вышине, Такие знаки сумрачного цвета, Сказал: «Учитель, смысл их страшен мне». Он, прозорливый, отвечал на это: «Здесь нужно, чтоб душа была тверда; Здесь страх не должен подавать совета. Я обещал, что мы придем туда, Где ты увидишь, как томятся тени, Свет разума утратив навсегда». Дав руку мне, чтоб я не знал сомнений, И обернув ко мне спокойный лик, Он ввел меня в таинственные сени. Там вздохи, плач и исступленный крик Во тьме беззвездной были так велики, Что поначалу я в слезах поник. Обрывки всех наречий, ропот дикий, Слова, в которых боль, и гнев, и страх, Плесканье рук, и жалобы, и всклики Сливались в гул, без времени, в веках, Кружащийся во мгле неозаренной, Как бурным вихрем возмущенный прах. И я, с главою, ужасом стесненной: «Чей это крик? — едва спросить посмел. — Какой толпы, страданьем побежденной?» И вождь в ответ: «То горестный удел Тех жалких душ, что прожили, не зная Ни славы, ни позора смертных дел. И с ними ангелов дурная стая, Что, не восстав, была и не верна Всевышнему, средину соблюдая. Их свергло небо, не терпя пятна; И пропасть Ада их не принимает, Иначе возгордилась бы вина». И я: «Учитель, что их так терзает И понуждает к жалобам таким?» А он: «Ответ недолгий подобает. И смертный час для них недостижим, И эта жизнь настолько нестерпима, Что все другое было б легче им. Их память на земле невоскресима; От них и суд, и милость отошли. Они не стоят слов: взгляни — и мимо!«
 И я, взглянув, увидел стяг вдали,
Бежавший кругом, словно злая сила
Гнала его в крутящейся пыли;
А вслед за ним столь длинная спешила
Чреда людей, что, верилось с трудом,
Ужели смерть столь многих истребила.
Признав иных, я вслед за тем в одном
Узнал того, кто от великой доли
Отрекся в малодушии своем.
И понял я, что здесь вопят от боли
Ничтожные, которых не возьмут
Ни бог, ни супостаты божьей воли.
Вовек не живший, этот жалкий люд
Бежал нагим, кусаемый слепнями
И осами, роившимися тут.
Кровь, между слез, с их лиц текла
И мерзостные скопища червей
Ее глотали тут же под ногами.
Взглянув подальше, я толпу людей
Увидел у широкого потока.
«Учитель, — я сказал, — тебе ясней,
Кто эти там и власть какого рока
Их словно гонит и теснит к волнам,
Как может показаться издалека».
И он ответил: «Ты увидишь сам,
Когда мы шаг приблизим к Ахерону
И подойдем к печальным берегам».
Смущенный взор склонив к земному лону,
Боясь докучным быть, я шел вперед,
Безмолвствуя, к береговому склону.
И вот в ладье навстречу нам плывет
Старик, поросший древней сединою,
Крича: «О, горе вам, проклятый род!
И я, взглянув, увидел стяг вдали,
Бежавший кругом, словно злая сила
Гнала его в крутящейся пыли;
А вслед за ним столь длинная спешила
Чреда людей, что, верилось с трудом,
Ужели смерть столь многих истребила.
Признав иных, я вслед за тем в одном
Узнал того, кто от великой доли
Отрекся в малодушии своем.
И понял я, что здесь вопят от боли
Ничтожные, которых не возьмут
Ни бог, ни супостаты божьей воли.
Вовек не живший, этот жалкий люд
Бежал нагим, кусаемый слепнями
И осами, роившимися тут.
Кровь, между слез, с их лиц текла
И мерзостные скопища червей
Ее глотали тут же под ногами.
Взглянув подальше, я толпу людей
Увидел у широкого потока.
«Учитель, — я сказал, — тебе ясней,
Кто эти там и власть какого рока
Их словно гонит и теснит к волнам,
Как может показаться издалека».
И он ответил: «Ты увидишь сам,
Когда мы шаг приблизим к Ахерону
И подойдем к печальным берегам».
Смущенный взор склонив к земному лону,
Боясь докучным быть, я шел вперед,
Безмолвствуя, к береговому склону.
И вот в ладье навстречу нам плывет
Старик, поросший древней сединою,
Крича: «О, горе вам, проклятый род!
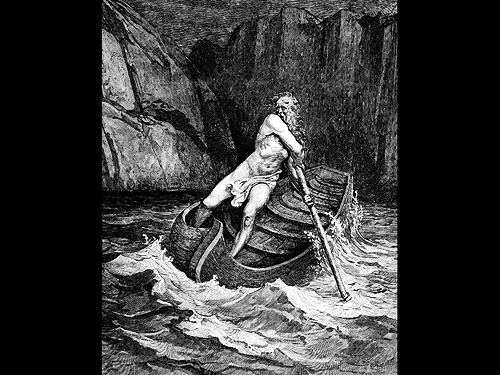 Забудьте небо, встретившись со мною!
В моей ладье готовьтесь переплыть
К извечной тьме, и холоду, и зною.
А ты уйди, тебе нельзя тут быть,
Живой душе, средь мертвых!» И добавил,
Чтобы меня от прочих отстранить:
«Ты не туда свои шаги направил:
Челнок полегче должен ты найти,
Чтобы тебя он к пристани доставил».
А вождь ему: «Харон, гнев укроти.
Того хотят — там, где исполнить властны
То, что хотят. И речи прекрати».
Недвижен стал шерстистый лик ужасный
У лодочника сумрачной реки,
Но вкруг очей змеился пламень красный.
Нагие души, слабы и легки,
Вняв приговор, не знающий изъятья,
Стуча зубами, бледны от тоски,
Выкрикивали Господу проклятья,
Хулили род людской, и день, и час,
И край, и семя своего зачатья.
Потом, рыдая, двинулись зараз
К реке, чьи волны, в муках безутешных,
Увидят все, в ком божий страх угас.
А бес Харон сзывает стаю грешных,
Вращая взор, как уголья в золе,
И гонит их и бьет веслом неспешных.
Забудьте небо, встретившись со мною!
В моей ладье готовьтесь переплыть
К извечной тьме, и холоду, и зною.
А ты уйди, тебе нельзя тут быть,
Живой душе, средь мертвых!» И добавил,
Чтобы меня от прочих отстранить:
«Ты не туда свои шаги направил:
Челнок полегче должен ты найти,
Чтобы тебя он к пристани доставил».
А вождь ему: «Харон, гнев укроти.
Того хотят — там, где исполнить властны
То, что хотят. И речи прекрати».
Недвижен стал шерстистый лик ужасный
У лодочника сумрачной реки,
Но вкруг очей змеился пламень красный.
Нагие души, слабы и легки,
Вняв приговор, не знающий изъятья,
Стуча зубами, бледны от тоски,
Выкрикивали Господу проклятья,
Хулили род людской, и день, и час,
И край, и семя своего зачатья.
Потом, рыдая, двинулись зараз
К реке, чьи волны, в муках безутешных,
Увидят все, в ком божий страх угас.
А бес Харон сзывает стаю грешных,
Вращая взор, как уголья в золе,
И гонит их и бьет веслом неспешных.
 Как листья сыплются в осенней мгле,
За строем строй, и ясень оголенный
Свои одежды видит на земле, —
Так сев Адама, на беду рожденный,
Кидался вниз, один, — за ним другой,
Подобно птице, в сети приманенной.
И вот плывут над темной глубиной;
Но не успели кончить переправы,
Как новый сонм собрался над рекой.
«Мой сын, — сказал учитель величавый,
Все те, кто умер, Бога прогневив,
Спешат сюда, все страны и державы;
И минуть реку всякий тороплив,
Так утесненный правосудьем Бога,
Что самый страх преображен в призыв.
Для добрых душ другая есть дорога;
И ты поймешь, что разумел Харон,
Когда с тобою говорил так строго».
Чуть он умолк, простор со всех сторон
Сотрясся так, что, в страхе вспоминая,
Я и поныне потом орошен.
Дохнула ветром глубина земная,
Пустыня скорби вспыхнула кругом,
Багровым блеском чувства ослепляя;
И я упал, как тот, кто схвачен сном.
Как листья сыплются в осенней мгле,
За строем строй, и ясень оголенный
Свои одежды видит на земле, —
Так сев Адама, на беду рожденный,
Кидался вниз, один, — за ним другой,
Подобно птице, в сети приманенной.
И вот плывут над темной глубиной;
Но не успели кончить переправы,
Как новый сонм собрался над рекой.
«Мой сын, — сказал учитель величавый,
Все те, кто умер, Бога прогневив,
Спешат сюда, все страны и державы;
И минуть реку всякий тороплив,
Так утесненный правосудьем Бога,
Что самый страх преображен в призыв.
Для добрых душ другая есть дорога;
И ты поймешь, что разумел Харон,
Когда с тобою говорил так строго».
Чуть он умолк, простор со всех сторон
Сотрясся так, что, в страхе вспоминая,
Я и поныне потом орошен.
Дохнула ветром глубина земная,
Пустыня скорби вспыхнула кругом,
Багровым блеском чувства ослепляя;
И я упал, как тот, кто схвачен сном.
ПЕСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ Ворвался в глубь моей дремоты сонной Тяжелый гул, и я очнулся вдруг, Как человек, насильно пробужденный. Я отдохнувший взгляд обвел вокруг, Встав на ноги и пристально взирая, Чтоб осмотреться в этом царстве мук. Мы были возле пропасти, у края, И страшный срыв гудел у наших ног, Бесчисленные крики извергая. Он был так темен, смутен и глубок, Что я над ним склонялся по-пустому И ничего в нем различить не мог. «Теперь мы к миру спустимся слепому, — Так начал, смертно побледнев, поэт. — Мне первому идти, тебе — второму». И я сказал, заметив этот цвет: «Как я пойду, когда вождем и другом Владеет страх, и мне опоры нет?» «Печаль о тех, кто скован ближним кругом, — Он отвечал, — мне на лицо легла, И состраданье ты почел испугом. Пора идти, дорога не мала». Так он сошел, и я за ним спустился, Вниз, в первый круг, идущий вкруг жерла. Сквозь тьму не плач до слуха доносился, А только вздох взлетал со всех сторон И в вековечном воздухе струился. Он был безбольной скорбью порожден, Которою казалися объяты Толпы младенцев, и мужей, и жен. «Что ж ты не спросишь, — молвил мой вожатый, Какие духи здесь нашли приют? Знай, прежде чем продолжить путь начатый, Что эти не грешили; не спасут Одни заслуги, если нет крещенья, Которым к вере истинной идут; Кто жил до христианского ученья, Тот бога чтил не так, как мы должны. Таков и я. За эти упущенья, Не за иное, мы осуждены, И здесь, по приговору высшей воли, Мы жаждем и надежды лишены». Стеснилась грудь моя от тяжкой боли При вести, сколь достойные мужи Вкушают в Лимбе горечь этой доли. «Учитель мой, мой господин, скажи, — Спросил я, алча веры несомненной, Которая превыше всякой лжи, — Взошел ли кто отсюда в свет блаженный, Своей иль чьей-то правдой искуплен?» Поняв значенье речи сокровенной: «Я был здесь внове, — мне ответил он, — Когда, при мне, сюда сошел Властитель, Хоруговию победы осенен. Им изведен был первый прародитель; И Авель, чистый сын его, и Ной, И Моисей, уставщик и служитель; И царь Давид, и Авраам седой; Израиль, и отец его, и дети; Рахиль, великой взятая ценой; И много тех, кто ныне в горнем свете. Других спасенных не было до них, И первыми блаженны стали эти». Он говорил, но шаг наш не затих, И мы все время шли великой чащей, Я разумею — чащей душ людских. И в области, невдале отстоящей От места сна, предстал моим глазам Огонь, под полушарьем тьмы горящий. Хоть этот свет и не был близок к нам, Я видеть мог, что некий многочестный И высший сонм уединился там. «Искусств и знаний образец всеместный, Скажи, кто эти, не в пример другим Почтенные среди толпы окрестной?» И он ответил: «Именем своим Они гремят земле, и слава эта Угодна небу, благостному к ним». «Почтите высочайшего поэта! — Раздался в это время чей-то зов. — Вот тень его подходит к месту света». И я увидел после этих слов, Что четверо к нам держат шаг державный; Их облик был ни весел, ни суров. «Взгляни, — промолвил мой учитель славный. — С мечом в руке, величьем осиян, Трем остальным предшествует, как главный, Гомер, превысший из певцов всех стран; Второй — Гораций, бичевавший нравы; Овидий — третий, и за ним — Лукан. Нас связывает титул величавый, Здесь прозвучавший, чуть я подошел; Почтив его, они, конечно, правы». Так я узрел славнейшую из школ, Чьи песнопенья вознеслись над светом И реют над другими, как орел. Мой вождь их встретил, и ко мне с приветом Семья певцов приблизилась сама; Учитель улыбнулся мне при этом.
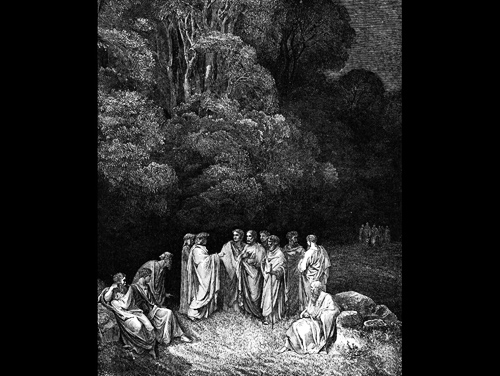 И эта честь умножилась весьма,
Когда я приобщен был к их собору
И стал шестым средь столького ума.
Мы шли к лучам, предавшись разговору,
Который лишний здесь и в этот миг,
Насколько там он к месту был и в пору.
Высокий замок предо мной возник,
Семь раз обвитый стройными стенами;
Кругом бежал приветливый родник.
Мы, как землей, прошли его волнами;
Сквозь семь ворот тропа вовнутрь вела;
Зеленый луг открылся перед нами.
Там были люди с важностью чела,
С неторопливым и спокойным взглядом;
Их речь звучна и медленна была.
Мы поднялись на холм, который рядом,
В открытом месте, светел, величав,
Господствовал над этим свежим садом.
На зеленеющей финифти трав
Предстали взорам доблестные тени,
И я ликую сердцем, их видав.
Я зрел Электру в сонме поколений,
Меж коих были Гектор, и Эней,
И хищноокий Цезарь, друг сражений.
Пентесилея и Камилла с ней
Сидели возле, и с отцом — Лавина;
Брут, первый консул, был в кругу теней;
Дочь Цезаря, супруга Коллатина,
И Гракхов мать, и та, чей муж Катон;
Поодаль я заметил Саладина.
Потом, взглянув на невысокий склон,
Я увидал: учитель тех, кто знает,
Семьей мудролюбивой окружен.
К нему Сократ всех ближе восседает
И с ним Платон; весь сонм всеведца чтит;
Здесь тот, кто мир случайным полагает,
Философ знаменитый Демокрит;
Здесь Диоген, Фалес с Анаксагором,
Зенон, и Эмпедокл, и Гераклит;
Диоскорид, прославленный разбором
Целебных качеств; Сенека, Орфей,
Лин, Туллий; дальше представали взорам
Там — геометр Эвклид, там — Птолемей,
Там — Гиппократ, Гален и Авиценна,
Аверроис, толковник новых дней.
Я всех назвать не в силах поименно;
Мне нужно быстро молвить обо всем,
И часто речь моя несовершенна.
Синклит шести распался, мы вдвоем;
Из тихой, сени в воздух потрясенный
Уже иным мы движемся путем,
И я — во тьме, ничем не озаренной.
И эта честь умножилась весьма,
Когда я приобщен был к их собору
И стал шестым средь столького ума.
Мы шли к лучам, предавшись разговору,
Который лишний здесь и в этот миг,
Насколько там он к месту был и в пору.
Высокий замок предо мной возник,
Семь раз обвитый стройными стенами;
Кругом бежал приветливый родник.
Мы, как землей, прошли его волнами;
Сквозь семь ворот тропа вовнутрь вела;
Зеленый луг открылся перед нами.
Там были люди с важностью чела,
С неторопливым и спокойным взглядом;
Их речь звучна и медленна была.
Мы поднялись на холм, который рядом,
В открытом месте, светел, величав,
Господствовал над этим свежим садом.
На зеленеющей финифти трав
Предстали взорам доблестные тени,
И я ликую сердцем, их видав.
Я зрел Электру в сонме поколений,
Меж коих были Гектор, и Эней,
И хищноокий Цезарь, друг сражений.
Пентесилея и Камилла с ней
Сидели возле, и с отцом — Лавина;
Брут, первый консул, был в кругу теней;
Дочь Цезаря, супруга Коллатина,
И Гракхов мать, и та, чей муж Катон;
Поодаль я заметил Саладина.
Потом, взглянув на невысокий склон,
Я увидал: учитель тех, кто знает,
Семьей мудролюбивой окружен.
К нему Сократ всех ближе восседает
И с ним Платон; весь сонм всеведца чтит;
Здесь тот, кто мир случайным полагает,
Философ знаменитый Демокрит;
Здесь Диоген, Фалес с Анаксагором,
Зенон, и Эмпедокл, и Гераклит;
Диоскорид, прославленный разбором
Целебных качеств; Сенека, Орфей,
Лин, Туллий; дальше представали взорам
Там — геометр Эвклид, там — Птолемей,
Там — Гиппократ, Гален и Авиценна,
Аверроис, толковник новых дней.
Я всех назвать не в силах поименно;
Мне нужно быстро молвить обо всем,
И часто речь моя несовершенна.
Синклит шести распался, мы вдвоем;
Из тихой, сени в воздух потрясенный
Уже иным мы движемся путем,
И я — во тьме, ничем не озаренной.
ПЕСНЬ ПЯТАЯ Так я сошел, покинув круг начальный, Вниз во второй; он менее, чем тот, Но больших мук в нем слышен стон печальный. Здесь ждет Минос, оскалив страшный рот; Допрос и суд свершает у порога И взмахами хвоста на муку шлет.
 Едва душа, отпавшая от Бога,
Пред ним предстанет с повестью своей,
Он, согрешенья различая строго,
Обитель Ада назначает ей,
Хвост обвивая столько раз вкруг тела,
На сколько ей спуститься ступеней.
Всегда толпа у грозного предела;
Подходят души чередой на суд:
Промолвила, вняла и вглубь слетела.
«О ты, пришедший в бедственный приют, —
Вскричал Минос, меня окинув взглядом
И прерывая свой жестокий труд, —
Зачем ты здесь, и кто с тобою рядом?
Не обольщайся, что легко войти!»
И вождь в ответ: «Тому, кто сходит Адом,
Не преграждай сужденного пути.
Того хотят — там, где исполнить властны
То, что хотят. И речи прекрати».
И вот я начал различать неясный
И дальний стон; вот я пришел туда,
Где плач в меня ударил многогласный.
Я там, где свет немотствует всегда
И словно воет глубина морская,
Когда двух вихрей злобствует вражда.
То адский ветер, отдыха не зная,
Мчит сонмы душ среди окрестной мглы
И мучит их, крутя и истязая.
Едва душа, отпавшая от Бога,
Пред ним предстанет с повестью своей,
Он, согрешенья различая строго,
Обитель Ада назначает ей,
Хвост обвивая столько раз вкруг тела,
На сколько ей спуститься ступеней.
Всегда толпа у грозного предела;
Подходят души чередой на суд:
Промолвила, вняла и вглубь слетела.
«О ты, пришедший в бедственный приют, —
Вскричал Минос, меня окинув взглядом
И прерывая свой жестокий труд, —
Зачем ты здесь, и кто с тобою рядом?
Не обольщайся, что легко войти!»
И вождь в ответ: «Тому, кто сходит Адом,
Не преграждай сужденного пути.
Того хотят — там, где исполнить властны
То, что хотят. И речи прекрати».
И вот я начал различать неясный
И дальний стон; вот я пришел туда,
Где плач в меня ударил многогласный.
Я там, где свет немотствует всегда
И словно воет глубина морская,
Когда двух вихрей злобствует вражда.
То адский ветер, отдыха не зная,
Мчит сонмы душ среди окрестной мглы
И мучит их, крутя и истязая.
 Когда они стремятся вдоль скалы,
Взлетают крики, жалобы и пени,
На Господа ужасные хулы.
И я узнал, что это круг мучений
Для тех, кого земная плоть звала,
Кто предал разум власти вожделений.
Когда они стремятся вдоль скалы,
Взлетают крики, жалобы и пени,
На Господа ужасные хулы.
И я узнал, что это круг мучений
Для тех, кого земная плоть звала,
Кто предал разум власти вожделений.
 И как скворцов уносят их крыла,
В дни холода, густым и длинным строем,
Так эта буря кружит духов зла
Туда, сюда, вниз, вверх, огромным роем;
Там нет надежды на смягченье мук
Или на миг, овеянный покоем.
Как журавлиный клин летит на юг
С унылой песнью в высоте надгорной,
Так предо мной, стеная, несся круг
Теней, гонимых вьюгой необорной,
И я сказал: «Учитель, кто они,
Которых так терзает воздух черный?»
Он отвечал: «Вот первая, взгляни:
Ее державе многие языки
В минувшие покорствовали дни.
Она вдалась в такой разврат великий,
Что вольность всем была разрешена,
Дабы народ не осуждал владыки.
То Нинова венчанная жена,
Семирамида, древняя царица;
Ее земля Султану отдана.
Вот нежной страсти горестная жрица,
Которой прах Сихея оскорблен;
Вот Клеопатра, грешная блудница.
А там Елена, тягостных времен
Виновница; Ахилл, гроза сражений,
Который был любовью побежден;
Парис, Тристан». Бесчисленные тени
Он назвал мне и указал рукой,
Погубленные жаждой наслаждений.
Вняв имена прославленных молвой
Воителей и жен из уст поэта,
Я смутен стал, и дух затмился мой.
Я начал так: «Я бы хотел ответа
От этих двух, которых вместе вьет
И так легко уносит буря эта».
И мне мой вождь: «Пусть ветер их пригнет
Поближе к нам; и пусть любовью молит
Их оклик твой; они прервут полет».
Увидев, что их ветер к нам неволит:
«О души скорби! — я воззвал. — Сюда!
И отзовитесь, если Тот позволит!»
Как голуби на сладкий зов гнезда,
Поддержанные волею несущей,
Раскинув крылья, мчатся без труда,
Так и они, паря во мгле гнетущей,
Покинули Дидоны скорбный рой
На возглас мой, приветливо зовущий.
«О ласковый и благостный живой,
Ты, посетивший в тьме неизреченной
Нас, обагривших кровью мир земной;
Когда бы нам был другом царь вселенной,
Мы бы молились, чтоб тебя он спас,
Сочувственного к муке сокровенной.
И если к нам беседа есть у вас,
Мы рады говорить и слушать сами,
Пока безмолвен вихрь, как здесь сейчас.
Я родилась над теми берегами,
Где волны, как усталого гонца,
Встречают По с попутными реками.
Любовь сжигает нежные сердца,
И он пленился телом несравнимым,
Погубленным так страшно в час конца.
Любовь, любить велящая любимым,
Меня к нему так властно привлекла,
Что этот плен ты видишь нерушимым.
Любовь вдвоем на гибель нас вела;
В Каине будет наших дней гаситель».
Такая речь из уст у них текла.
И как скворцов уносят их крыла,
В дни холода, густым и длинным строем,
Так эта буря кружит духов зла
Туда, сюда, вниз, вверх, огромным роем;
Там нет надежды на смягченье мук
Или на миг, овеянный покоем.
Как журавлиный клин летит на юг
С унылой песнью в высоте надгорной,
Так предо мной, стеная, несся круг
Теней, гонимых вьюгой необорной,
И я сказал: «Учитель, кто они,
Которых так терзает воздух черный?»
Он отвечал: «Вот первая, взгляни:
Ее державе многие языки
В минувшие покорствовали дни.
Она вдалась в такой разврат великий,
Что вольность всем была разрешена,
Дабы народ не осуждал владыки.
То Нинова венчанная жена,
Семирамида, древняя царица;
Ее земля Султану отдана.
Вот нежной страсти горестная жрица,
Которой прах Сихея оскорблен;
Вот Клеопатра, грешная блудница.
А там Елена, тягостных времен
Виновница; Ахилл, гроза сражений,
Который был любовью побежден;
Парис, Тристан». Бесчисленные тени
Он назвал мне и указал рукой,
Погубленные жаждой наслаждений.
Вняв имена прославленных молвой
Воителей и жен из уст поэта,
Я смутен стал, и дух затмился мой.
Я начал так: «Я бы хотел ответа
От этих двух, которых вместе вьет
И так легко уносит буря эта».
И мне мой вождь: «Пусть ветер их пригнет
Поближе к нам; и пусть любовью молит
Их оклик твой; они прервут полет».
Увидев, что их ветер к нам неволит:
«О души скорби! — я воззвал. — Сюда!
И отзовитесь, если Тот позволит!»
Как голуби на сладкий зов гнезда,
Поддержанные волею несущей,
Раскинув крылья, мчатся без труда,
Так и они, паря во мгле гнетущей,
Покинули Дидоны скорбный рой
На возглас мой, приветливо зовущий.
«О ласковый и благостный живой,
Ты, посетивший в тьме неизреченной
Нас, обагривших кровью мир земной;
Когда бы нам был другом царь вселенной,
Мы бы молились, чтоб тебя он спас,
Сочувственного к муке сокровенной.
И если к нам беседа есть у вас,
Мы рады говорить и слушать сами,
Пока безмолвен вихрь, как здесь сейчас.
Я родилась над теми берегами,
Где волны, как усталого гонца,
Встречают По с попутными реками.
Любовь сжигает нежные сердца,
И он пленился телом несравнимым,
Погубленным так страшно в час конца.
Любовь, любить велящая любимым,
Меня к нему так властно привлекла,
Что этот плен ты видишь нерушимым.
Любовь вдвоем на гибель нас вела;
В Каине будет наших дней гаситель».
Такая речь из уст у них текла.
 Скорбящих теней сокрушенный зритель,
Я голову в тоске склонил на грудь.
«О чем ты думаешь?» — спросил учитель.
Я начал так: «О, знал ли кто-нибудь,
Какая нега и мечта какая
Их привела на этот горький путь!»
Потом, к умолкшим слово обращая,
Сказал: «Франческа, жалобе твоей
Я со слезами внемлю, сострадая.
Но расскажи: меж вздохов нежных дней,
Что было вам любовною наукой,
Раскрывшей слуху тайный зов страстей?»
И мне она: «Тот страждет высшей мукой,
Кто радостные помнит времена
В несчастии; твой вождь тому порукой.
Но если знать до первого зерна
Злосчастную любовь ты полон жажды,
Слова и слезы расточу сполна.
В досужий час читали мы однажды
О Ланчелоте сладостный рассказ;
Одни мы были, был беспечен каждый.
Над книгой взоры встретились не раз,
И мы бледнели с тайным содроганьем;
Но дальше повесть победила нас.
Чуть мы прочли о том, как он лобзаньем
Прильнул к улыбке дорогого рта,
Тот, с кем навек я скована терзаньем,
Поцеловал, дрожа, мои уста.
И книга стала нашим Галеотом!
Никто из нас не дочитал листа».
Дух говорил, томимый страшным гнетом,
Другой рыдал, и мука их сердец
Мое чело покрыла смертным потом;
И я упал, как падает мертвец.
Скорбящих теней сокрушенный зритель,
Я голову в тоске склонил на грудь.
«О чем ты думаешь?» — спросил учитель.
Я начал так: «О, знал ли кто-нибудь,
Какая нега и мечта какая
Их привела на этот горький путь!»
Потом, к умолкшим слово обращая,
Сказал: «Франческа, жалобе твоей
Я со слезами внемлю, сострадая.
Но расскажи: меж вздохов нежных дней,
Что было вам любовною наукой,
Раскрывшей слуху тайный зов страстей?»
И мне она: «Тот страждет высшей мукой,
Кто радостные помнит времена
В несчастии; твой вождь тому порукой.
Но если знать до первого зерна
Злосчастную любовь ты полон жажды,
Слова и слезы расточу сполна.
В досужий час читали мы однажды
О Ланчелоте сладостный рассказ;
Одни мы были, был беспечен каждый.
Над книгой взоры встретились не раз,
И мы бледнели с тайным содроганьем;
Но дальше повесть победила нас.
Чуть мы прочли о том, как он лобзаньем
Прильнул к улыбке дорогого рта,
Тот, с кем навек я скована терзаньем,
Поцеловал, дрожа, мои уста.
И книга стала нашим Галеотом!
Никто из нас не дочитал листа».
Дух говорил, томимый страшным гнетом,
Другой рыдал, и мука их сердец
Мое чело покрыла смертным потом;
И я упал, как падает мертвец.
ПЕСНЬ ШЕСТАЯ Едва ко мне вернулся ясный разум, Который был не в силах устоять Пред горестным виденьем и рассказом, — Уже средь новых пыток я опять, Средь новых жертв, куда ни обратиться, Куда ни посмотреть, куда ни стать. Я в третьем круге, там, где, дождь струится, Проклятый, вечный, грузный, ледяной; Всегда такой же, он все так же длится. Тяжелый град, и снег, и мокрый гной Пронизывают воздух непроглядный; Земля смердит под жидкой пеленой. Трехзевый Цербер, хищный и громадный, Собачьим лаем лает на народ, Который вязнет в этой топи смрадной.
 Его глаза багровы, вздут живот,
Жир в черной бороде, когтисты руки;
Он мучит души, кожу с мясом рвет.
А те под ливнем воют, словно суки;
Прикрыть стараясь верхним нижний бок,
Ворочаются в исступленье муки.
Завидя нас, разинул рты, как мог,
Червь гнусный. Цербер, и спокойной части
В нем не было от головы до ног.
Мой вождь нагнулся, простирая пясти,
И, взяв земли два полных кулака,
Метнул ее в прожорливые пасти.
Как пес, который с лаем ждал куска,
Смолкает, в кость вгрызаясь с жадной силой,
И занят только тем, что жрет пока, —
Так смолк и демон Цербер грязнорылый,
Чей лай настолько душам омерзел,
Что глухота казалась бы им милой.
Меж призраков, которыми владел
Тяжелый дождь, мы шли вперед, ступая
По пустоте, имевшей облик тел.
Его глаза багровы, вздут живот,
Жир в черной бороде, когтисты руки;
Он мучит души, кожу с мясом рвет.
А те под ливнем воют, словно суки;
Прикрыть стараясь верхним нижний бок,
Ворочаются в исступленье муки.
Завидя нас, разинул рты, как мог,
Червь гнусный. Цербер, и спокойной части
В нем не было от головы до ног.
Мой вождь нагнулся, простирая пясти,
И, взяв земли два полных кулака,
Метнул ее в прожорливые пасти.
Как пес, который с лаем ждал куска,
Смолкает, в кость вгрызаясь с жадной силой,
И занят только тем, что жрет пока, —
Так смолк и демон Цербер грязнорылый,
Чей лай настолько душам омерзел,
Что глухота казалась бы им милой.
Меж призраков, которыми владел
Тяжелый дождь, мы шли вперед, ступая
По пустоте, имевшей облик тел.
 Лежала плоско их гряда густая,
И лишь один, чуть нас заметил он,
Привстал и сел, глаза на нас вздымая.
«О ты, который в этот Ад сведен, —
Сказал он, — ты меня, наверно, знаешь;
Ты был уже, когда я выбыл вон».
И я: «Ты вид столь жалостный являешь,
Что кажешься чужим в глазах моих
И вряд ли мне кого напоминаешь.
Скажи мне, кто ты, жертва этих злых
И скорбных мест и казни ежечасной,
Не горше, но противней всех других».
И он: «Твой город, зависти ужасной
Столь полный, что уже трещит квашня,
Был и моим когда-то в жизни ясной.
Прозвали Чакко граждане меня.
За то, что я обжорству предавался,
Я истлеваю, под дождем стеня.
И, бедная душа, я оказался
Не одинок: их всех карают тут
За тот же грех». Его рассказ прервался.
Я молвил: «Чакко, слезы грудь мне жмут
Тоской о бедствии твоем загробном.
Но я прошу: скажи, к чему придут
Враждующие в городе усобном;
И кто в нем праведен; и чем раздор
Зажжен в народе этом многозлобном?»
И он ответил: «После долгих ссор
Прольется кровь и власть лесным доставит,
А их врагам — изгнанье и позор.
Когда же солнце трижды лик свой явит,
Они падут, а тем поможет встать
Рука того, кто в наши дни лукавит.
Они придавят их и будут знать,
Что вновь чело на долгий срок подъемлют,
Судив осаженным и плакать и роптать.
Есть двое праведных, но им не внемлют.
Гордыня, зависть, алчность — вот в сердцах
Три жгучих искры, что вовек не дремлют».
Он смолк на этих горестных словах.
И я ему: «Из бездны злополучий
Вручи мне дар и будь щедрей в речах.
Теггьяйо, Фарината, дух могучий,
Все те, чей разум правдой был богат,
Арриго, Моска или Рустикуччи, —
Где все они, я их увидеть рад;
Мне сердце жжет узнать судьбу славнейших:
Их нежит Небо или травит Ад?»
И он: «Они средь душ еще чернейших:
Их тянет книзу бремя грешных лет;
Ты можешь встретить их в кругах дальнейших.
Но я прошу: вернувшись в милый свет,
Напомни людям, что я жил меж ними.
Вот мой последний сказ и мой ответ».
Взглянув глазами, от тоски косыми,
Он наклонился и, лицо тая,
Повергся ниц меж прочими слепыми.
И мне сказал вожатый: «Здесь гния,
Он до трубы архангела не встанет.
Когда придет враждебный Судия,
К своей могиле скорбной каждый прянет
И, в прежний образ снова воплотясь,
Услышит то, что вечным громом грянет».
Мы тихо шли сквозь смешанную грязь
Теней и ливня, в разные сужденья
О вековечной жизни углубясь.
Я так спросил: «Учитель, их мученья,
По грозном приговоре, как — сильней
Иль меньше будут, иль без измененья?»
И он: «Наукой сказано твоей,
Что, чем природа совершенней в сущем,
Тем слаще нега в нем, и боль больней.
Хотя проклятым людям, здесь живущим,
К прямому совершенству не прийти,
Их ждет полнее бытие в грядущем».
Мы шли кругом по этому пути;
Я всей беседы нашей не отмечу;
И там, где к бездне начал спуск вести,
Нам Плутос, враг великий, встал навстречу.
Лежала плоско их гряда густая,
И лишь один, чуть нас заметил он,
Привстал и сел, глаза на нас вздымая.
«О ты, который в этот Ад сведен, —
Сказал он, — ты меня, наверно, знаешь;
Ты был уже, когда я выбыл вон».
И я: «Ты вид столь жалостный являешь,
Что кажешься чужим в глазах моих
И вряд ли мне кого напоминаешь.
Скажи мне, кто ты, жертва этих злых
И скорбных мест и казни ежечасной,
Не горше, но противней всех других».
И он: «Твой город, зависти ужасной
Столь полный, что уже трещит квашня,
Был и моим когда-то в жизни ясной.
Прозвали Чакко граждане меня.
За то, что я обжорству предавался,
Я истлеваю, под дождем стеня.
И, бедная душа, я оказался
Не одинок: их всех карают тут
За тот же грех». Его рассказ прервался.
Я молвил: «Чакко, слезы грудь мне жмут
Тоской о бедствии твоем загробном.
Но я прошу: скажи, к чему придут
Враждующие в городе усобном;
И кто в нем праведен; и чем раздор
Зажжен в народе этом многозлобном?»
И он ответил: «После долгих ссор
Прольется кровь и власть лесным доставит,
А их врагам — изгнанье и позор.
Когда же солнце трижды лик свой явит,
Они падут, а тем поможет встать
Рука того, кто в наши дни лукавит.
Они придавят их и будут знать,
Что вновь чело на долгий срок подъемлют,
Судив осаженным и плакать и роптать.
Есть двое праведных, но им не внемлют.
Гордыня, зависть, алчность — вот в сердцах
Три жгучих искры, что вовек не дремлют».
Он смолк на этих горестных словах.
И я ему: «Из бездны злополучий
Вручи мне дар и будь щедрей в речах.
Теггьяйо, Фарината, дух могучий,
Все те, чей разум правдой был богат,
Арриго, Моска или Рустикуччи, —
Где все они, я их увидеть рад;
Мне сердце жжет узнать судьбу славнейших:
Их нежит Небо или травит Ад?»
И он: «Они средь душ еще чернейших:
Их тянет книзу бремя грешных лет;
Ты можешь встретить их в кругах дальнейших.
Но я прошу: вернувшись в милый свет,
Напомни людям, что я жил меж ними.
Вот мой последний сказ и мой ответ».
Взглянув глазами, от тоски косыми,
Он наклонился и, лицо тая,
Повергся ниц меж прочими слепыми.
И мне сказал вожатый: «Здесь гния,
Он до трубы архангела не встанет.
Когда придет враждебный Судия,
К своей могиле скорбной каждый прянет
И, в прежний образ снова воплотясь,
Услышит то, что вечным громом грянет».
Мы тихо шли сквозь смешанную грязь
Теней и ливня, в разные сужденья
О вековечной жизни углубясь.
Я так спросил: «Учитель, их мученья,
По грозном приговоре, как — сильней
Иль меньше будут, иль без измененья?»
И он: «Наукой сказано твоей,
Что, чем природа совершенней в сущем,
Тем слаще нега в нем, и боль больней.
Хотя проклятым людям, здесь живущим,
К прямому совершенству не прийти,
Их ждет полнее бытие в грядущем».
Мы шли кругом по этому пути;
Я всей беседы нашей не отмечу;
И там, где к бездне начал спуск вести,
Нам Плутос, враг великий, встал навстречу.
ПЕСНЬ СЕДЬМАЯ «Pарe Satan, рарe Satan aleppe!» — Хриплоголосый Плутос закричал. Хотя бы он и вдвое был свирепей, — Меня мудрец, все знавший, ободрял, — Не поддавайся страху: что могло бы Нам помешать спуститься с этих скал?» И этой роже, вздувшейся от злобы, Он молвил так: «Молчи, проклятый волк! Сгинь в клокотаньи собственной утробы! Мы сходим в тьму, и надо, чтоб ты смолк; Так хочет тот, кто мщенье Михаила Обрушил в небе на мятежный полк». Как падают надутые ветрила, Свиваясь, если щегла рухнет вдруг, Так рухнул зверь, и в нем исчезла сила. И мы, спускаясь побережьем мук, Объемлющим всю скверну мирозданья, Из третьего сошли в четвертый круг. О правосудье божье! Кто страданья, Все те, что я увидел, перечтет? Почто такие за вину терзанья? Как над Харибдой вал бежит вперед И вспять отхлынет, прегражденный встречным, Так люди здесь водили хоровод. Их множество казалось бесконечным; Два сонмища шагали, рать на рать, Толкая грудью грузы, с воплем вечным;
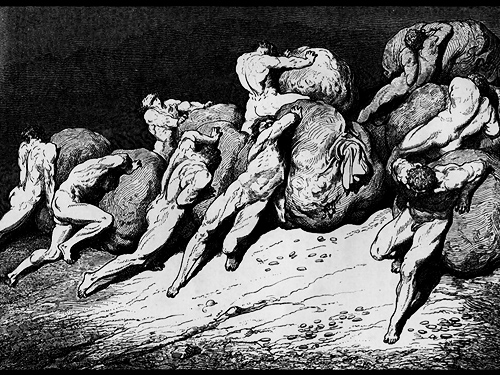 Потом они сшибались и опять
С трудом брели назад, крича друг другу:
«Чего копить?» или «Чего швырять?» —
И, двигаясь по сумрачному кругу,
Шли к супротивной точке с двух сторон,
По-прежнему ругаясь сквозь натугу;
И вновь назад, едва был завершен
Их полукруг такой же дракой хмурой.
И я промолвил, сердцем сокрушен:
«Мой вождь, что это за народ понурый?
Ужель все это клирики, весь ряд
От нас налево, эти там, с тонзурой?»
И он: «Все те, кого здесь видит взгляд,
Умом настолько в жизни были кривы,
Что в меру не умели делать трат.
Об этом лает голос их сварливый,
Когда они стоят к лицу лицом,
Наперекор друг другу нечестивы.
Те — клирики, с пробритым гуменцом;
Здесь встретишь папу, встретишь кардинала,
Не превзойденных ни одним скупцом».
И я: «Учитель, я бы здесь немало
Узнал из тех, кого не так давно
Подобное нечестие пятнало».
И он: «Тебе узнать их не дано:
На них такая грязь от жизни гадкой,
Что разуму обличье их темно.
Им вечно так шагать, кончая схваткой;
Они восстанут из своих могил,
Те — сжав кулак, а эти — с плешью гладкой.
Кто недостойно тратил и копил,
Лишен блаженств и занят этой бучей;
Ее и без меня ты оценил.
Ты видишь, сын, какой обман летучий
Даяния Фортуны, род земной
Исполнившие ненависти жгучей:
Все золото, что блещет под луной
Иль было встарь, из этих теней, бедных
Не успокоило бы ни одной».
И я: «Учитель тайн заповедных!
Что есть Фортуна, счастье всех племен
Держащая в когтях своих победных?»
«О глупые созданья, — молвил он, —
Какая тьма ваш разум обуяла!
Так будь же наставленьем утолен.
Тот, чья премудрость правит изначала,
Воздвигнув тверди, создал им вождей,
Чтоб каждой части часть своя сияла,
Распространяя ровный свет лучей;
Мирской же блеск он предал в полновластье
Правительнице судеб, чтобы ей
Перемещать, в свой час, пустое счастье
Из рода в род и из краев в края,
В том смертной воле возбранив участье.
Народу над народом власть дая,
Она свершает промысел свой строгий,
И он невидим, как в траве змея.
С ней не поспорит разум ваш убогий:
Она провидит, судит и царит,
Как в прочих царствах остальные боги.
Без устали свой суд она творит:
Нужда ее торопит ежечасно,
И всем она недолгий миг дарит.
Ее-то и поносят громогласно,
Хотя бы подобала ей хвала,
И распинают, и клянут напрасно.
Но ей, блаженной, не слышна хула:
Она, смеясь меж первенцев творенья,
Крутит свой шар, блаженна и светла.
Но спустимся в тягчайшие мученья:
Склонились звезды, те, что плыли ввысь,
Когда мы шли; запретны промедленья».
Мы пересекли круг и добрались
До струй ручья, которые просторной,
Изрытой ими, впадиной неслись.
Окраска их была багрово-черной;
И мы, в соседстве этих мрачных вод,
Сошли по диким тропам с кручи горной.
Угрюмый ключ стихает и растет
В Стигийское болото, ниспадая
К подножью серокаменных высот.
И я увидел, долгий взгляд вперяя,
Людей, погрязших в омуте реки;
Была свирепа их толпа нагая.
Потом они сшибались и опять
С трудом брели назад, крича друг другу:
«Чего копить?» или «Чего швырять?» —
И, двигаясь по сумрачному кругу,
Шли к супротивной точке с двух сторон,
По-прежнему ругаясь сквозь натугу;
И вновь назад, едва был завершен
Их полукруг такой же дракой хмурой.
И я промолвил, сердцем сокрушен:
«Мой вождь, что это за народ понурый?
Ужель все это клирики, весь ряд
От нас налево, эти там, с тонзурой?»
И он: «Все те, кого здесь видит взгляд,
Умом настолько в жизни были кривы,
Что в меру не умели делать трат.
Об этом лает голос их сварливый,
Когда они стоят к лицу лицом,
Наперекор друг другу нечестивы.
Те — клирики, с пробритым гуменцом;
Здесь встретишь папу, встретишь кардинала,
Не превзойденных ни одним скупцом».
И я: «Учитель, я бы здесь немало
Узнал из тех, кого не так давно
Подобное нечестие пятнало».
И он: «Тебе узнать их не дано:
На них такая грязь от жизни гадкой,
Что разуму обличье их темно.
Им вечно так шагать, кончая схваткой;
Они восстанут из своих могил,
Те — сжав кулак, а эти — с плешью гладкой.
Кто недостойно тратил и копил,
Лишен блаженств и занят этой бучей;
Ее и без меня ты оценил.
Ты видишь, сын, какой обман летучий
Даяния Фортуны, род земной
Исполнившие ненависти жгучей:
Все золото, что блещет под луной
Иль было встарь, из этих теней, бедных
Не успокоило бы ни одной».
И я: «Учитель тайн заповедных!
Что есть Фортуна, счастье всех племен
Держащая в когтях своих победных?»
«О глупые созданья, — молвил он, —
Какая тьма ваш разум обуяла!
Так будь же наставленьем утолен.
Тот, чья премудрость правит изначала,
Воздвигнув тверди, создал им вождей,
Чтоб каждой части часть своя сияла,
Распространяя ровный свет лучей;
Мирской же блеск он предал в полновластье
Правительнице судеб, чтобы ей
Перемещать, в свой час, пустое счастье
Из рода в род и из краев в края,
В том смертной воле возбранив участье.
Народу над народом власть дая,
Она свершает промысел свой строгий,
И он невидим, как в траве змея.
С ней не поспорит разум ваш убогий:
Она провидит, судит и царит,
Как в прочих царствах остальные боги.
Без устали свой суд она творит:
Нужда ее торопит ежечасно,
И всем она недолгий миг дарит.
Ее-то и поносят громогласно,
Хотя бы подобала ей хвала,
И распинают, и клянут напрасно.
Но ей, блаженной, не слышна хула:
Она, смеясь меж первенцев творенья,
Крутит свой шар, блаженна и светла.
Но спустимся в тягчайшие мученья:
Склонились звезды, те, что плыли ввысь,
Когда мы шли; запретны промедленья».
Мы пересекли круг и добрались
До струй ручья, которые просторной,
Изрытой ими, впадиной неслись.
Окраска их была багрово-черной;
И мы, в соседстве этих мрачных вод,
Сошли по диким тропам с кручи горной.
Угрюмый ключ стихает и растет
В Стигийское болото, ниспадая
К подножью серокаменных высот.
И я увидел, долгий взгляд вперяя,
Людей, погрязших в омуте реки;
Была свирепа их толпа нагая.
 Они дрались, не только в две руки,
Но головой, и грудью, и ногами,
Друг друга норовя изгрызть в клочки.
Учитель молвил: «Сын мой, перед нами
Ты видишь тех, кого осилил гнев;
Еще ты должен знать, что под волнами
Есть также люди; вздохи их, взлетев,
Пузырят воду на пространстве зримом,
Как подтверждает око, посмотрев.
Увязнув, шепчут: «В воздухе родимом,
Который блещет, солнцу веселясь,
Мы были скучны, полны вялым дымом;
И вот скучаем, втиснутые в грязь».
Такую песнь у них курлычет горло,
Напрасно слово вымолвить трудясь».
Так, огибая илистые жерла,
Мы, гранью топи и сухой земли,
Смотря на тех, чьи глотки тиной сперло,
К подножью башни наконец пришли.
Они дрались, не только в две руки,
Но головой, и грудью, и ногами,
Друг друга норовя изгрызть в клочки.
Учитель молвил: «Сын мой, перед нами
Ты видишь тех, кого осилил гнев;
Еще ты должен знать, что под волнами
Есть также люди; вздохи их, взлетев,
Пузырят воду на пространстве зримом,
Как подтверждает око, посмотрев.
Увязнув, шепчут: «В воздухе родимом,
Который блещет, солнцу веселясь,
Мы были скучны, полны вялым дымом;
И вот скучаем, втиснутые в грязь».
Такую песнь у них курлычет горло,
Напрасно слово вымолвить трудясь».
Так, огибая илистые жерла,
Мы, гранью топи и сухой земли,
Смотря на тех, чьи глотки тиной сперло,
К подножью башни наконец пришли.
ПЕСНЬ ВОСЬМАЯ Скажу, продолжив, что до башни этой Мы не дошли изрядного куска, Когда наш взгляд, к ее зубцам воздетый, Приметил два зажженных огонька И где-то третий, глазу чуть заметный, Как бы ответивший издалека. Взывая к морю мудрости всесветной, Я так спросил: «Что это за огни? Кто и зачем дает им знак ответный?» «Когда ты видишь сквозь туман, взгляни, — Так молвил он. — Над илистым простором Ты различишь, кого зовут они». Ни перед чьим не пролетала взором Стрела так быстро, в воздухе спеша, Как малый челн, который, в беге скором, Стремился к нам, по заводи шурша, С одним гребцом, кричавшим громогласно: «Ага, попалась, грешная душа!» «Нет, Флегий, Флегий, ты кричишь напрасно, — Сказал мой вождь. — Твои мы лишь на миг, И в этот челн ступаем безопасно». Как тот, кто слышит, что его постиг Большой обман, и злится, распаленный, Так вспыхнул Флегий, искажая лик. Сошел в челнок учитель благосклонный, Я вслед за ним, и лишь тогда ладья Впервые показалась отягченной. Чуть в лодке поместились вождь и я, Помчался древний струг, и так глубоко Не рассекалась ни под кем струя. Посередине мертвого потока Мне встретился один; весь в грязь одет, Он молвил: «Кто ты, что пришел до срока?»
 И я: «Пришел, но мой исчезнет след.
А сам ты кто, так гнусно безобразный?»
«Я тот, кто плачет», — был его ответ.
И я: «Плачь, сетуй в топи невылазной,
Проклятый дух, пей вечную волну!
Ты мне — знаком, такой вот даже грязный».
Тогда он руки протянул к челну;
Но вождь толкнул вцепившегося в злобе,
Сказав: «Иди к таким же псам, ко дну!»
И мне вкруг шеи, с поцелуем, обе
Обвив руки, сказал: «Суровый дух,
Блаженна несшая тебя в утробе!
Он в мире был гордец и сердцем сух;
Его деяний люди не прославят;
И вот он здесь от злости слеп и глух.
Сколь многие, которые там правят,
Как свиньи, влезут в этот мутный сток
И по себе ужасный срам оставят!»
И я: «Учитель, если бы я мог
Увидеть въявь, как он в болото канет,
Пока еще на озере челнок!»
И он ответил: «Раньше, чем проглянет
Тот берег, утолишься до конца,
И эта радость для тебя настанет».
Тут так накинулся на мертвеца
Весь грязный люд в неистовстве великом,
Что я поднесь благодарю Творца.
И я: «Пришел, но мой исчезнет след.
А сам ты кто, так гнусно безобразный?»
«Я тот, кто плачет», — был его ответ.
И я: «Плачь, сетуй в топи невылазной,
Проклятый дух, пей вечную волну!
Ты мне — знаком, такой вот даже грязный».
Тогда он руки протянул к челну;
Но вождь толкнул вцепившегося в злобе,
Сказав: «Иди к таким же псам, ко дну!»
И мне вкруг шеи, с поцелуем, обе
Обвив руки, сказал: «Суровый дух,
Блаженна несшая тебя в утробе!
Он в мире был гордец и сердцем сух;
Его деяний люди не прославят;
И вот он здесь от злости слеп и глух.
Сколь многие, которые там правят,
Как свиньи, влезут в этот мутный сток
И по себе ужасный срам оставят!»
И я: «Учитель, если бы я мог
Увидеть въявь, как он в болото канет,
Пока еще на озере челнок!»
И он ответил: «Раньше, чем проглянет
Тот берег, утолишься до конца,
И эта радость для тебя настанет».
Тут так накинулся на мертвеца
Весь грязный люд в неистовстве великом,
Что я поднесь благодарю Творца.
 «Хватай Ардженти!» — было общим криком;
И флорентийский дух, кругом тесним,
Рвал сам себя зубами в гневе диком.
Так сгинул он, и я покончу с ним;
Но тут мне в уши стон вонзился дальный,
И взгляд мой распахнулся, недвижим.
«Мой сын, — сказал учитель достохвальный, —
Вот город Дит, и в нем заключены
Безрадостные люди, сонм печальный».
И я: «Учитель, вот из-за стены
Встают его мечети, багровея,
Как будто на огне раскалены».
«То вечный пламень, за оградой вея, —
Сказал он, — башни красит багрецом;
Так нижний Ад тебе открылся, рдея».
Челнок вошел в крутые рвы, кругом
Объемлющие мрачный гребень вала;
И стены мне казались чугуном.
Немалый круг мы сделали сначала
И стали там, где кормчий мглистых вод:
«Сходите! — крикнул нам. — Мы у причала»
Я видел на воротах много сот
Дождем ниспавших с неба, стражу входа,
Твердивших: «Кто он, что сюда идет,
Не мертвый, в царство мертвого народа?»
Вождь подал вид, что он бы им хотел
Поведать тайну нашего прихода.
И те, кладя свирепости предел:
«Сам подойди, но отошли второго,
Раз в это царство он вступить посмел.
Безумный путь пускай свершает снова,
Но без тебя; а ты у нас побудь,
Его вожак средь сумрака ночного».
Помысли, чтец, в какую впал я жуть,
Услышав этой речи звук проклятый;
Я знал, что не найду обратный путь.
И я сказал: «О милый мой вожатый,
Меня спасавший семь и больше раз,
Когда мой дух робел, тоской объятый,
Не покидай меня в столь грозный час!
Когда запретен город, нам представший,
Вернемся вспять стезей, приведшей нас».
И властный муж, меня сопровождавший,
Сказал: «Не бойся; нашего пути
Отнять нельзя; таков его нам давший.
Здесь жди меня; и дух обогати
Надеждой доброй; в этой тьме глубокой
Тебя и дальше буду я блюсти».
Ушел благой отец, и одинокий
Остался я, и в голове моей
И «да», и «нет» творили спор жестокий.
Расслышать я не мог его речей;
Но с ним враги беседовали мало,
И каждый внутрь укрылся поскорей,
Железо их ворот загрохотало
Пред самой грудью мудреца, и он,
Оставшись вне, назад побрел устало.
Потупя взор и бодрости лишен,
Он шел вздыхая, и уста шептали:
«Кем в скорбный город путь мне возбранен!»
И мне он молвил: «Ты, хоть я в печали,
Не бойся; я превозмогу и здесь,
Какой бы тут отпор ни замышляли.
Не новость их воинственная спесь;
Так было и пред внешними вратами,
Которые распахнуты поднесь.
Ты видел надпись с мертвыми словами;
Уже оттуда, нисходя с высот,
Без спутников, идет сюда кругами
Тот, чья рука нам город отомкнет».
«Хватай Ардженти!» — было общим криком;
И флорентийский дух, кругом тесним,
Рвал сам себя зубами в гневе диком.
Так сгинул он, и я покончу с ним;
Но тут мне в уши стон вонзился дальный,
И взгляд мой распахнулся, недвижим.
«Мой сын, — сказал учитель достохвальный, —
Вот город Дит, и в нем заключены
Безрадостные люди, сонм печальный».
И я: «Учитель, вот из-за стены
Встают его мечети, багровея,
Как будто на огне раскалены».
«То вечный пламень, за оградой вея, —
Сказал он, — башни красит багрецом;
Так нижний Ад тебе открылся, рдея».
Челнок вошел в крутые рвы, кругом
Объемлющие мрачный гребень вала;
И стены мне казались чугуном.
Немалый круг мы сделали сначала
И стали там, где кормчий мглистых вод:
«Сходите! — крикнул нам. — Мы у причала»
Я видел на воротах много сот
Дождем ниспавших с неба, стражу входа,
Твердивших: «Кто он, что сюда идет,
Не мертвый, в царство мертвого народа?»
Вождь подал вид, что он бы им хотел
Поведать тайну нашего прихода.
И те, кладя свирепости предел:
«Сам подойди, но отошли второго,
Раз в это царство он вступить посмел.
Безумный путь пускай свершает снова,
Но без тебя; а ты у нас побудь,
Его вожак средь сумрака ночного».
Помысли, чтец, в какую впал я жуть,
Услышав этой речи звук проклятый;
Я знал, что не найду обратный путь.
И я сказал: «О милый мой вожатый,
Меня спасавший семь и больше раз,
Когда мой дух робел, тоской объятый,
Не покидай меня в столь грозный час!
Когда запретен город, нам представший,
Вернемся вспять стезей, приведшей нас».
И властный муж, меня сопровождавший,
Сказал: «Не бойся; нашего пути
Отнять нельзя; таков его нам давший.
Здесь жди меня; и дух обогати
Надеждой доброй; в этой тьме глубокой
Тебя и дальше буду я блюсти».
Ушел благой отец, и одинокий
Остался я, и в голове моей
И «да», и «нет» творили спор жестокий.
Расслышать я не мог его речей;
Но с ним враги беседовали мало,
И каждый внутрь укрылся поскорей,
Железо их ворот загрохотало
Пред самой грудью мудреца, и он,
Оставшись вне, назад побрел устало.
Потупя взор и бодрости лишен,
Он шел вздыхая, и уста шептали:
«Кем в скорбный город путь мне возбранен!»
И мне он молвил: «Ты, хоть я в печали,
Не бойся; я превозмогу и здесь,
Какой бы тут отпор ни замышляли.
Не новость их воинственная спесь;
Так было и пред внешними вратами,
Которые распахнуты поднесь.
Ты видел надпись с мертвыми словами;
Уже оттуда, нисходя с высот,
Без спутников, идет сюда кругами
Тот, чья рука нам город отомкнет».
ПЕСНЬ ДЕВЯТАЯ Цвет, робостью на мне запечатленный, Когда мой спутник повернул назад, — Согнал с его лица налет мгновенный. Он слушал, тщетно напрягая взгляд, Затем что вдаль глаза не уводили Сквозь черный воздух и болотный чад. «И все ж мы победим, — сказал он, — или… Такая нам защитница дана! О, где же тот, кто выше их усилий!» Я видел, речь его рассечена, Начатую спешит покрыть иная, И с первою несходственна она. Но я внимал ей, мужество теряя, Мрачней, быть может, чем она была, Оборванную мысль воспринимая. «Туда, на дно печального жерла, Спускаются ли с первой той ступени, Где лишь надежда в душах умерла?» Так я спросил; и он: «Из нашей сени По этим, мною пройденным, тропам Лишь редкие досель сходили тени. Но некогда я здесь прошел и сам, Злой Эрихто заклятый, что умела Обратно души призывать к телам. Едва лишь плоть во мне осиротела. Сквозь эти стены был я снаряжен За пленником Иудина предела. Всех ниже, всех темней, всех дальше он От горней сферы, связь миров кружащей; Я знаю путь; напрасно ты смущен. Низина эта заводью смердящей Повсюду облегает скорбный вал, Разгневанным отпором нам грозящий». Не помню я, что он еще сказал: Всего меня мой глаз, в тоске раскрытый, К вершине рдяной башни приковал, Где вдруг взвились, для бешеной защиты, Три Фурии, кровавы и бледны И гидрами зелеными обвиты;
 Они как жены были сложены;
Но, вместо кос, клубами змей пустыни
Свирепые виски оплетены
И тот, кто ведал, каковы рабыни
Властительницы вечных слез ночных,
Сказал: «Взгляни на яростных Эриний.
Вот Тисифона, средняя из них;
Левей-Мегера: справа олютело
Рыдает Алекто». И он затих.
А те себе терзали грудь и тело
Руками били; крик их так звенел,
Что я к учителю приник несмело.
«Медуза где? Чтоб он окаменел! —
Они вопили, глядя вниз. — Напрасно
Тезеевых мы не отомстили дел».
«Закрой глаза и отвернись; ужасно
Увидеть лик Горгоны; к свету дня
Тебя ничто вернуть не будет властно».
Так молвил мой учитель и меня
Поворотил, своими же руками,
Поверх моих, глаза мне заслоня.
О вы, разумные, взгляните сами,
И всякий наставленье да поймет,
Сокрытое под странными стихами!
И вот уже по глади мутных вод
Ужасным звуком грохот шел ревущий,
Колебля оба брега, наш и тот, —
Такой, как если ветер всемогущий,
Враждующими воздухами взвит,
Преград не зная, сокрушает пущи,
Ломает ветви, рушит их и мчит;
Вздымая прах, идет неудержимо,
И зверь и пастырь от него бежит.
Открыв мне очи: «Улови, что зримо
Там, — он промолвил, — где всего черней
Над этой древней пеной горечь дыма».
Как от змеи, противницы своей,
Спешат лягушки, расплываясь кругом,
Чтоб на земле упрятаться верней,
Так, видел я, гонимые испугом,
Станицы душ бежали пред одним,
Который Стиксом шел, как твердым лугом.
Он отстранял от взоров липкий дым,
Перед собою левой помавая,
И, видимо, лишь этим был томим.
Посла небес в идущем признавая,
Я на вождя взглянул; и понял знак
Пред ним склониться, уст не размыкая.
О, как он гневно шел сквозь этот мрак!
Он стал у врат и тростию подъятой
Их отворил, — и не боролся враг.
Они как жены были сложены;
Но, вместо кос, клубами змей пустыни
Свирепые виски оплетены
И тот, кто ведал, каковы рабыни
Властительницы вечных слез ночных,
Сказал: «Взгляни на яростных Эриний.
Вот Тисифона, средняя из них;
Левей-Мегера: справа олютело
Рыдает Алекто». И он затих.
А те себе терзали грудь и тело
Руками били; крик их так звенел,
Что я к учителю приник несмело.
«Медуза где? Чтоб он окаменел! —
Они вопили, глядя вниз. — Напрасно
Тезеевых мы не отомстили дел».
«Закрой глаза и отвернись; ужасно
Увидеть лик Горгоны; к свету дня
Тебя ничто вернуть не будет властно».
Так молвил мой учитель и меня
Поворотил, своими же руками,
Поверх моих, глаза мне заслоня.
О вы, разумные, взгляните сами,
И всякий наставленье да поймет,
Сокрытое под странными стихами!
И вот уже по глади мутных вод
Ужасным звуком грохот шел ревущий,
Колебля оба брега, наш и тот, —
Такой, как если ветер всемогущий,
Враждующими воздухами взвит,
Преград не зная, сокрушает пущи,
Ломает ветви, рушит их и мчит;
Вздымая прах, идет неудержимо,
И зверь и пастырь от него бежит.
Открыв мне очи: «Улови, что зримо
Там, — он промолвил, — где всего черней
Над этой древней пеной горечь дыма».
Как от змеи, противницы своей,
Спешат лягушки, расплываясь кругом,
Чтоб на земле упрятаться верней,
Так, видел я, гонимые испугом,
Станицы душ бежали пред одним,
Который Стиксом шел, как твердым лугом.
Он отстранял от взоров липкий дым,
Перед собою левой помавая,
И, видимо, лишь этим был томим.
Посла небес в идущем признавая,
Я на вождя взглянул; и понял знак
Пред ним склониться, уст не размыкая.
О, как он гневно шел сквозь этот мрак!
Он стал у врат и тростию подъятой
Их отворил, — и не боролся враг.
 «О свергнутые с неба, род проклятый, —
Возвысил он с порога грозный глас, —
Что ты замыслил, слепотой объятый?
К чему бороться с волей выше вас,
Которая идет стопою твердой
И ваши беды множила не раз?
Что на судьбу кидаться в злобе гордой?
Ваш Цербер, если помните о том,
И до сих пор с потертой ходит мордой».
И вспять нечистым двинулся путем,
Нам не сказав ни слова, точно кто-то,
Кого теснит и гложет об ином,
Но не о том, кто перед ним, забота;
И мы, ободрясь от священных слов,
Свои шаги направили в ворота.
Мы внутрь вошли, не повстречав врагов,
И я, чтоб ведать образ муки грешной,
Замкнутой между крепостных зубцов,
Ступив вовнутрь, кидаю взгляд поспешный
И вижу лишь пустынные места,
Исполненные скорби безутешной.
Как в Арле, там, где Рона разлита,
Как в Поле, где Карнаро многоводный
Смыкает Италийские врата,
Гробницами исхолмлен дол бесплодный, —
Так здесь повсюду высились они,
Но горечь этих мест была несходной;
Затем что здесь меж ям ползли огни,
Так их каля, как в пламени горнила
Железо не калилось искони.
Была раскрыта каждая могила,
И горестный свидетельствовал стон,
Каких она отверженцев таила
И я: «Учитель, кто похоронен
В гробницах этих скорбных, что такими
Стенаниями воздух оглашен?»
«Ересиархи, — молвил он, — и с ними
Их присные, всех толков; глубь земли
Они устлали толпами густыми.
Подобные с подобными легли,
И зной в гробах где злей, где меньше страшен».
Потом он вправо взял, и мы пошли
Меж полем мук и выступами башен.
«О свергнутые с неба, род проклятый, —
Возвысил он с порога грозный глас, —
Что ты замыслил, слепотой объятый?
К чему бороться с волей выше вас,
Которая идет стопою твердой
И ваши беды множила не раз?
Что на судьбу кидаться в злобе гордой?
Ваш Цербер, если помните о том,
И до сих пор с потертой ходит мордой».
И вспять нечистым двинулся путем,
Нам не сказав ни слова, точно кто-то,
Кого теснит и гложет об ином,
Но не о том, кто перед ним, забота;
И мы, ободрясь от священных слов,
Свои шаги направили в ворота.
Мы внутрь вошли, не повстречав врагов,
И я, чтоб ведать образ муки грешной,
Замкнутой между крепостных зубцов,
Ступив вовнутрь, кидаю взгляд поспешный
И вижу лишь пустынные места,
Исполненные скорби безутешной.
Как в Арле, там, где Рона разлита,
Как в Поле, где Карнаро многоводный
Смыкает Италийские врата,
Гробницами исхолмлен дол бесплодный, —
Так здесь повсюду высились они,
Но горечь этих мест была несходной;
Затем что здесь меж ям ползли огни,
Так их каля, как в пламени горнила
Железо не калилось искони.
Была раскрыта каждая могила,
И горестный свидетельствовал стон,
Каких она отверженцев таила
И я: «Учитель, кто похоронен
В гробницах этих скорбных, что такими
Стенаниями воздух оглашен?»
«Ересиархи, — молвил он, — и с ними
Их присные, всех толков; глубь земли
Они устлали толпами густыми.
Подобные с подобными легли,
И зной в гробах где злей, где меньше страшен».
Потом он вправо взял, и мы пошли
Меж полем мук и выступами башен.
ПЕСНЬ ДЕСЯТАЯ
И вот идет, тропинкою, по краю,
Между стеной кремля и местом мук,
Учитель мой, и я вослед ступаю.
«О высший ум, из круга в горший круг, —
Так начал я, — послушного стремящий,
Ответь и к просьбе снизойди как друг.
Тех, кто положен здесь в земле горящей,
Нельзя ль увидеть? Плиты у могил
Откинуты, и стражи нет хранящей».
«Все будут замкнуты, — ответ мне был, —
Когда вернутся из Иосафата
В той плоти вновь, какую кто носил.
Здесь кладбище для веривших когда-то,
Как Эпикур и все, кто вместе с ним,
Что души с плотью гибнут без возврата
Здесь ты найдешь ответ речам твоим
И утоленье помысла другого,
Который в сердце у тебя таим».
И я: «Мой добрый вождь, иное слово
Я берегу, в душе его храня,
Чтоб заповедь твою блюсти сурово».
«Тосканец, ты, что городом огня
Идешь, живой, и скромен столь примерно,
Прошу тебя, побудь вблизи меня.
Ты, судя по наречию, наверно
Сын благородной родины моей,
Быть может, мной измученной чрезмерно», —
Нежданно грянул звук таких речей
Из некоей могилы; оробело
Я к моему вождю прильнул тесней.
И он мне: «Что ты смотришь так несмело?
Взгляни, ты видишь: Фарината встал.
Вот: все от чресл и выше видно тело».
 Уже я взгляд в лицо ему вперял;
А он, чело и грудь вздымая властно,
Казалось, Ад с презреньем озирал.
Меня мой вождь продвинул безопасно
Среди огней, лизавших нам пяты,
И так промолвил: «Говори с ним ясно».
Когда я стал у поднятой плиты,
В ногах могилы, мертвый, глянув строго,
Спросил надменно: «Чей потомок ты?»
Я, повинуясь, не укрыл ни слога,
Но в точности поведал обо всем;
Тогда он брови изогнул немного,
Потом сказал: «То был враждебный дом
Мне, всем моим со кровным и клевретам;
Он от меня два раза нес разгром».
«Хоть изгнаны, — не медлил я ответом, —
Они вернулись вновь со всех сторон;
А вашим счастья нет в искусстве этом».
Тут новый призрак, в яме, где и он,
Приподнял подбородок выше края;
Казалось, он коленопреклонен.
Он посмотрел окрест, как бы желая
Увидеть, нет ли спутника со мной;
Но умерла надежда, и, рыдая,
Он молвил: «Если в этот склеп слепой
Тебя привел твой величавый гений,
Где сын мой? Почему он не с тобой?»
«Я не своею волей в царствии теней, —
Ответил я, — и здесь мой вождь стоит;
А Гвидо ваш не чтил его творений».
Его слова и казни самый вид
Мне явственно прочли, кого я встретил;
И отзыв мой был ясен и открыт.
Вдруг он вскочил, крича: «Как ты ответил?
Он их не чтил? Его уж нет средь вас?
Отрадный свет его очам не светел?»
И так как мой ответ на этот раз
Недолгое молчанье предваряло,
Он рухнул навзничь и исчез из глаз.
А тот гордец, чья речь меня призвала
Стать около, недвижен был и тих
И облик свой не изменил нимало.
«То, — продолжал он снова, — что для них
Искусство это трудным остается,
Больнее мне, чем ложе мук моих.
Но раньше, чем в полсотый раз зажжется
Лик госпожи, чью волю здесь творят,
Ты сам поймешь, легко ль оно дается.
Но в милый мир да обретешь возврат! —
Поведай мне: зачем без снисхожденья
Законы ваши всех моих клеймят?»
И я на это: «В память истребленья,
Окрасившего Арбию в багрец,
У нас во храме так творят моленья».
Вздохнув в сердцах, он молвил наконец:
«Там был не только я, и в бой едва ли
Шел беспричинно хоть один боец.
Зато я был один, когда решали
Флоренцию стереть с лица земли;
Я спас ее, при поднятом забрале».
«О, если б ваши внуки мир нашли! —
Ответил я. — Но разрешите путы,
Которые мой ум обволокли.
Как я сужу, пред вами разомкнуты
Сокрытые в грядущем времена,
А в настоящем взор ваш полон смуты».
«Нам только даль отчетливо видна, —
Он отвечал, — как дальнозорким людям;
Лишь эта ясность нам Вождем дана.
Что близится, что есть, мы этим трудим
Наш ум напрасно; по чужим вестям
О вашем смертном бытии мы судим.
Поэтому, — как ты поймешь и сам, —
Едва замкнется дверь времен грядущих,
Умрет все знанье, свойственное нам».
И я, в скорбях, меня укором жгущих:
«Поведайте упавшему тому,
Что сын его еще среди живущих;
Я лишь затем не отвечал ему,
Что размышлял, сомнением объятый,
Над тем, что ныне явственно уму».
Уже меня окликнул мой вожатый;
Я молвил духу, что я речь прерву,
Но знать хочу, кто с ним в земле проклятой.
И он: «Здесь больше тысячи во рву;
И Федерик Второй лег в яму эту,
И кардинал; лишь этих назову».
Тут он исчез; и к древнему поэту
Я двинул шаг, в тревоге от угроз,
Ища разгадку темному ответу.
Мы вдаль пошли; учитель произнес:
«Чем ты смущен? Я это сердцем чую».
И я ему ответил на вопрос.
«Храни, как слышал, правду роковую
Твоей судьбы», — мне повелел поэт.
Потом он поднял перст: «Но знай другую:
Когда ты вступишь в благодатный свет
Прекрасных глаз, все видящих правдиво,
Постигнешь путь твоих грядущих лет».
Затем левей он взял неторопливо,
И нас от стен повел пологий скат
К средине круга, в сторону обрыва,
Откуда тяжкий доносился смрад.
Уже я взгляд в лицо ему вперял;
А он, чело и грудь вздымая властно,
Казалось, Ад с презреньем озирал.
Меня мой вождь продвинул безопасно
Среди огней, лизавших нам пяты,
И так промолвил: «Говори с ним ясно».
Когда я стал у поднятой плиты,
В ногах могилы, мертвый, глянув строго,
Спросил надменно: «Чей потомок ты?»
Я, повинуясь, не укрыл ни слога,
Но в точности поведал обо всем;
Тогда он брови изогнул немного,
Потом сказал: «То был враждебный дом
Мне, всем моим со кровным и клевретам;
Он от меня два раза нес разгром».
«Хоть изгнаны, — не медлил я ответом, —
Они вернулись вновь со всех сторон;
А вашим счастья нет в искусстве этом».
Тут новый призрак, в яме, где и он,
Приподнял подбородок выше края;
Казалось, он коленопреклонен.
Он посмотрел окрест, как бы желая
Увидеть, нет ли спутника со мной;
Но умерла надежда, и, рыдая,
Он молвил: «Если в этот склеп слепой
Тебя привел твой величавый гений,
Где сын мой? Почему он не с тобой?»
«Я не своею волей в царствии теней, —
Ответил я, — и здесь мой вождь стоит;
А Гвидо ваш не чтил его творений».
Его слова и казни самый вид
Мне явственно прочли, кого я встретил;
И отзыв мой был ясен и открыт.
Вдруг он вскочил, крича: «Как ты ответил?
Он их не чтил? Его уж нет средь вас?
Отрадный свет его очам не светел?»
И так как мой ответ на этот раз
Недолгое молчанье предваряло,
Он рухнул навзничь и исчез из глаз.
А тот гордец, чья речь меня призвала
Стать около, недвижен был и тих
И облик свой не изменил нимало.
«То, — продолжал он снова, — что для них
Искусство это трудным остается,
Больнее мне, чем ложе мук моих.
Но раньше, чем в полсотый раз зажжется
Лик госпожи, чью волю здесь творят,
Ты сам поймешь, легко ль оно дается.
Но в милый мир да обретешь возврат! —
Поведай мне: зачем без снисхожденья
Законы ваши всех моих клеймят?»
И я на это: «В память истребленья,
Окрасившего Арбию в багрец,
У нас во храме так творят моленья».
Вздохнув в сердцах, он молвил наконец:
«Там был не только я, и в бой едва ли
Шел беспричинно хоть один боец.
Зато я был один, когда решали
Флоренцию стереть с лица земли;
Я спас ее, при поднятом забрале».
«О, если б ваши внуки мир нашли! —
Ответил я. — Но разрешите путы,
Которые мой ум обволокли.
Как я сужу, пред вами разомкнуты
Сокрытые в грядущем времена,
А в настоящем взор ваш полон смуты».
«Нам только даль отчетливо видна, —
Он отвечал, — как дальнозорким людям;
Лишь эта ясность нам Вождем дана.
Что близится, что есть, мы этим трудим
Наш ум напрасно; по чужим вестям
О вашем смертном бытии мы судим.
Поэтому, — как ты поймешь и сам, —
Едва замкнется дверь времен грядущих,
Умрет все знанье, свойственное нам».
И я, в скорбях, меня укором жгущих:
«Поведайте упавшему тому,
Что сын его еще среди живущих;
Я лишь затем не отвечал ему,
Что размышлял, сомнением объятый,
Над тем, что ныне явственно уму».
Уже меня окликнул мой вожатый;
Я молвил духу, что я речь прерву,
Но знать хочу, кто с ним в земле проклятой.
И он: «Здесь больше тысячи во рву;
И Федерик Второй лег в яму эту,
И кардинал; лишь этих назову».
Тут он исчез; и к древнему поэту
Я двинул шаг, в тревоге от угроз,
Ища разгадку темному ответу.
Мы вдаль пошли; учитель произнес:
«Чем ты смущен? Я это сердцем чую».
И я ему ответил на вопрос.
«Храни, как слышал, правду роковую
Твоей судьбы», — мне повелел поэт.
Потом он поднял перст: «Но знай другую:
Когда ты вступишь в благодатный свет
Прекрасных глаз, все видящих правдиво,
Постигнешь путь твоих грядущих лет».
Затем левей он взял неторопливо,
И нас от стен повел пологий скат
К средине круга, в сторону обрыва,
Откуда тяжкий доносился смрад.
ПЕСНЬ ОДИННАДЦАТАЯ
Мы подошли к окраине обвала,
Где груда скал под нашею пятой
Еще страшней пучину открывала.
И тут от вони едкой и густой,
Навстречу нам из пропасти валившей,
Мой вождь и я укрылись за плитой
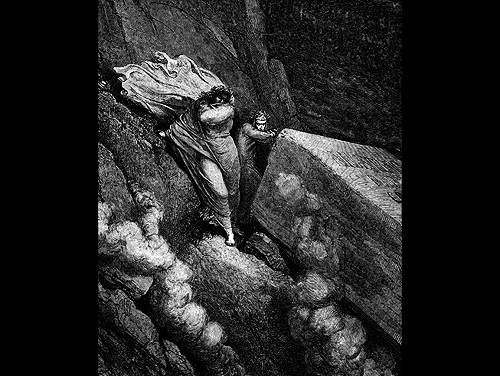 Большой гробницы, с надписью, гласившей:
«Здесь папа Анастасий заточен,
Вослед Фотину правый путь забывший».
«Не торопись ступать на этот склон,
Чтоб к запаху привыкло обонянье;
Потом мешать уже не будет он».
Так спутник мой. «Заполни ожиданье,
Чтоб не пропало время», — я сказал.
И он в ответ: «То и мое желанье».
«Мой сын, посередине этих скал, —
Так начал он, — лежат, как три ступени,
Три круга, меньше тех, что ты видал.
Во всех толпятся проклятые тени;
Чтобы потом лишь посмотреть на них,
Узнай их грех и образ их мучений.
В неправде, вредоносной для других,
Цель всякой злобы, небу неугодной;
Обман и сила — вот орудья злых.
Обман, порок, лишь человеку сродный,
Гнусней Творцу; он заполняет дно
И пыткою казнится безысходной.
Насилье в первый круг заключено,
Который на три пояса дробится,
Затем что видом тройственно оно,
Творцу, себе и ближнему чинится
Насилье, им самим и их вещам,
Как ты, внимая, можешь убедиться.
Насилье ближний терпит или сам,
Чрез смерть и раны, или подвергаясь
Пожарам, притесненьям, грабежам.
Убийцы, те, кто ранит, озлобляясь,
Громилы и разбойники идут
Во внешний пояс, в нем распределяясь.
Иные сами смерть себе несут
И своему добру; зато так больно
Себя же в среднем поясе клянут
Те, кто ваш мир отринул своевольно,
Кто возлюбил игру и мотовство
И плакал там, где мог бы жить привольно.
Насильем оскорбляют божество,
Хуля его и сердцем отрицая,
Презрев любовь Творца и естество.
За это пояс, вьющийся вдоль края,
Клеймит огнем Каорсу и Содом
И тех, кто ропщет, бога отвергая.
Обман, который всем сердцам знаком,
Приносит вред и тем, кто доверяет,
И тем, кто не доверился ни в чем.
Последний способ связь любви ломает,
Но только лишь естественную связь;
И казнь второго круга тех терзает,
Кто лицемерит, льстит, берет таясь,
Волшбу, подлог, торг должностью церковной,
Мздоимцев, сведен в другую грязь.
А первый способ, разрушая кровный
Союз любви, вдобавок не щадит
Союз доверья, высший и духовный.
И самый малый круг, в котором Дит
Воздвиг престол и где ядро вселенной,
Предавшего навеки поглотит».
И я: «Учитель, в речи совершенной
Ты образ бездны предо мной явил
И рассказал, кто в ней томится пленный.
Но молви: те, кого объемлет ил,
И хлещет дождь, и мечет вихрь ненастный,
И те, что спорят из последних сил,
Зачем они не в этот город красный
Заключены, когда их проклял бог?
А если нет, зачем они несчастны?»
И он сказал на это: «Как ты мог
Так отступить от здравого сужденья?
И где твой ум блуждает без дорог?
Ужели ты не помнишь изреченья
Из Этики, что пагубней всего
Три ненавистных небесам влеченья:
Несдержность, злоба, буйное скотство?
И что несдержность — меньший грех пред богом
И он не так карает за него?
Обдумав это в размышленьи строгом
И вспомнив тех, чье место вне стены
И кто наказан за ее порогом,
Поймешь, зачем они отделены
От этих злых и почему их муки
Божественным судом облегчены».
«О свет, которым зорок близорукий,
Ты учишь так, что я готов любить
Неведенье не менее науки.
Вернись, — сказал я, — чтобы разъяснить,
В чем ростовщик чернит своим пороком
Любовь Творца; распутай эту нить».
И он: «Для тех, кто дорожит уроком,
Не раз философ повторил слова,
Что естеству являются истоком
Премудрость и искусство божества.
И в Физике прочтешь, и не в исходе,
А только лишь перелистав едва:
Искусство смертных следует природе,
Как ученик ее, за пядью пядь;
Оно есть божий внук, в известном роде.
Им и природой, как ты должен знать
Из книги Бытия, господне слово
Велело людям жить и процветать.
А ростовщик, сойдя с пути благого,
И самою природой пренебрег,
И спутником ее, ища другого.
Но нам пора; прошел немалый срок;
Блеснули Рыбы над чертой востока,
И Воз уже совсем над Кавром лег,
А к спуску нам идти еще далеко».
Большой гробницы, с надписью, гласившей:
«Здесь папа Анастасий заточен,
Вослед Фотину правый путь забывший».
«Не торопись ступать на этот склон,
Чтоб к запаху привыкло обонянье;
Потом мешать уже не будет он».
Так спутник мой. «Заполни ожиданье,
Чтоб не пропало время», — я сказал.
И он в ответ: «То и мое желанье».
«Мой сын, посередине этих скал, —
Так начал он, — лежат, как три ступени,
Три круга, меньше тех, что ты видал.
Во всех толпятся проклятые тени;
Чтобы потом лишь посмотреть на них,
Узнай их грех и образ их мучений.
В неправде, вредоносной для других,
Цель всякой злобы, небу неугодной;
Обман и сила — вот орудья злых.
Обман, порок, лишь человеку сродный,
Гнусней Творцу; он заполняет дно
И пыткою казнится безысходной.
Насилье в первый круг заключено,
Который на три пояса дробится,
Затем что видом тройственно оно,
Творцу, себе и ближнему чинится
Насилье, им самим и их вещам,
Как ты, внимая, можешь убедиться.
Насилье ближний терпит или сам,
Чрез смерть и раны, или подвергаясь
Пожарам, притесненьям, грабежам.
Убийцы, те, кто ранит, озлобляясь,
Громилы и разбойники идут
Во внешний пояс, в нем распределяясь.
Иные сами смерть себе несут
И своему добру; зато так больно
Себя же в среднем поясе клянут
Те, кто ваш мир отринул своевольно,
Кто возлюбил игру и мотовство
И плакал там, где мог бы жить привольно.
Насильем оскорбляют божество,
Хуля его и сердцем отрицая,
Презрев любовь Творца и естество.
За это пояс, вьющийся вдоль края,
Клеймит огнем Каорсу и Содом
И тех, кто ропщет, бога отвергая.
Обман, который всем сердцам знаком,
Приносит вред и тем, кто доверяет,
И тем, кто не доверился ни в чем.
Последний способ связь любви ломает,
Но только лишь естественную связь;
И казнь второго круга тех терзает,
Кто лицемерит, льстит, берет таясь,
Волшбу, подлог, торг должностью церковной,
Мздоимцев, сведен в другую грязь.
А первый способ, разрушая кровный
Союз любви, вдобавок не щадит
Союз доверья, высший и духовный.
И самый малый круг, в котором Дит
Воздвиг престол и где ядро вселенной,
Предавшего навеки поглотит».
И я: «Учитель, в речи совершенной
Ты образ бездны предо мной явил
И рассказал, кто в ней томится пленный.
Но молви: те, кого объемлет ил,
И хлещет дождь, и мечет вихрь ненастный,
И те, что спорят из последних сил,
Зачем они не в этот город красный
Заключены, когда их проклял бог?
А если нет, зачем они несчастны?»
И он сказал на это: «Как ты мог
Так отступить от здравого сужденья?
И где твой ум блуждает без дорог?
Ужели ты не помнишь изреченья
Из Этики, что пагубней всего
Три ненавистных небесам влеченья:
Несдержность, злоба, буйное скотство?
И что несдержность — меньший грех пред богом
И он не так карает за него?
Обдумав это в размышленьи строгом
И вспомнив тех, чье место вне стены
И кто наказан за ее порогом,
Поймешь, зачем они отделены
От этих злых и почему их муки
Божественным судом облегчены».
«О свет, которым зорок близорукий,
Ты учишь так, что я готов любить
Неведенье не менее науки.
Вернись, — сказал я, — чтобы разъяснить,
В чем ростовщик чернит своим пороком
Любовь Творца; распутай эту нить».
И он: «Для тех, кто дорожит уроком,
Не раз философ повторил слова,
Что естеству являются истоком
Премудрость и искусство божества.
И в Физике прочтешь, и не в исходе,
А только лишь перелистав едва:
Искусство смертных следует природе,
Как ученик ее, за пядью пядь;
Оно есть божий внук, в известном роде.
Им и природой, как ты должен знать
Из книги Бытия, господне слово
Велело людям жить и процветать.
А ростовщик, сойдя с пути благого,
И самою природой пренебрег,
И спутником ее, ища другого.
Но нам пора; прошел немалый срок;
Блеснули Рыбы над чертой востока,
И Воз уже совсем над Кавром лег,
А к спуску нам идти еще далеко».
ПЕСНЬ ДВЕНАДЦАТАЯ
Был грозен срыв, откуда надо было
Спускаться вниз, и зрелище являл,
Которое любого бы смутило.
Как ниже Тренто видится обвал,
Обрушенный на Адиче когда-то
Землетрясеньем иль паденьем скал,
И каменная круча так щербата,
Что для идущих сверху поселян
Как бы тропинкой служат глыбы ската,
Таков был облик этих мрачных стран;
А на краю, над сходом к бездне новой,
Раскинувшись, лежал позор критян,
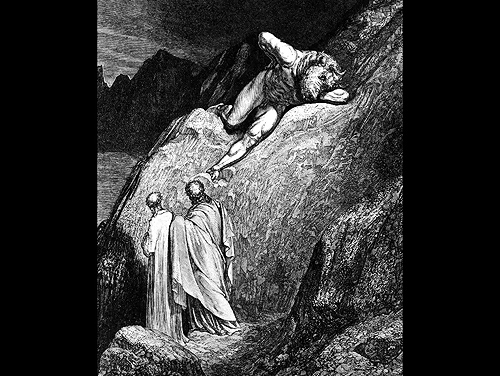 Зачатый древле мнимою коровой.
Завидев нас, он сам себя терзать
Зубами начал в злобе бестолковой.
Мудрец ему: «Ты бесишься опять?
Ты думаешь, я здесь с Афинским дуком,
Который приходил тебя заклать?
Посторонись, скот! Хитростным наукам
Твоей сестрой мой спутник не учен;
Он только соглядатай вашим мукам».
Как бык, секирой насмерть поражен,
Рвет свой аркан, но к бегу неспособен
И только скачет, болью оглушен,
Так Минотавр метался, дик и злобен;
И зоркий вождь мне крикнул: «Вниз беги!
Пока он в гневе, миг как раз удобен».
Мы под уклон направили шаги,
И часто камень угрожал обвалом
Под новой тяжестью моей ноги.
Я шел в раздумье. «Ты дивишься скалам,
Где этот лютый зверь не тронул нас? —
Промолвил вождь по размышленье малом. —
Так знай же, что, когда я прошлый раз
Шел нижним Адом в сумрак сокровенный,
Здесь не лежали глыбы, как сейчас.
Но перед тем, как в первый круг геенны
Явился тот, кто стольких в небо взял,
Которые у Дита были пленны,
Так мощно дрогнул пасмурный провал,
Что я подумал — мир любовь объяла,
Которая, как некто полагал,
Его и прежде в хаос обращала;
Тогда и этот рушился утес,
И не одна кой-где скала упала.
Но посмотри: вот, окаймив откос,
Течет поток кровавый, сожигая
Тех, кто насилье ближнему нанес».
О гнев безумный, о корысть слепая,
Вы мучите наш краткий век земной
И в вечности томите, истязая!
Я видел ров, изогнутый дугой
И всю равнину обходящий кругом,
Как это мне поведал спутник мой;
Меж ним и кручей мчались друг за другом
Кентавры, как, бывало, на земле,
Гоняя зверя, мчались вольным лугом.
Все стали, нас приметив на скале,
А трое подскакали ближе к краю,
Готовя лук и выбрав по стреле.
Зачатый древле мнимою коровой.
Завидев нас, он сам себя терзать
Зубами начал в злобе бестолковой.
Мудрец ему: «Ты бесишься опять?
Ты думаешь, я здесь с Афинским дуком,
Который приходил тебя заклать?
Посторонись, скот! Хитростным наукам
Твоей сестрой мой спутник не учен;
Он только соглядатай вашим мукам».
Как бык, секирой насмерть поражен,
Рвет свой аркан, но к бегу неспособен
И только скачет, болью оглушен,
Так Минотавр метался, дик и злобен;
И зоркий вождь мне крикнул: «Вниз беги!
Пока он в гневе, миг как раз удобен».
Мы под уклон направили шаги,
И часто камень угрожал обвалом
Под новой тяжестью моей ноги.
Я шел в раздумье. «Ты дивишься скалам,
Где этот лютый зверь не тронул нас? —
Промолвил вождь по размышленье малом. —
Так знай же, что, когда я прошлый раз
Шел нижним Адом в сумрак сокровенный,
Здесь не лежали глыбы, как сейчас.
Но перед тем, как в первый круг геенны
Явился тот, кто стольких в небо взял,
Которые у Дита были пленны,
Так мощно дрогнул пасмурный провал,
Что я подумал — мир любовь объяла,
Которая, как некто полагал,
Его и прежде в хаос обращала;
Тогда и этот рушился утес,
И не одна кой-где скала упала.
Но посмотри: вот, окаймив откос,
Течет поток кровавый, сожигая
Тех, кто насилье ближнему нанес».
О гнев безумный, о корысть слепая,
Вы мучите наш краткий век земной
И в вечности томите, истязая!
Я видел ров, изогнутый дугой
И всю равнину обходящий кругом,
Как это мне поведал спутник мой;
Меж ним и кручей мчались друг за другом
Кентавры, как, бывало, на земле,
Гоняя зверя, мчались вольным лугом.
Все стали, нас приметив на скале,
А трое подскакали ближе к краю,
Готовя лук и выбрав по стреле.
 Один из них, опередивший стаю,
Кричал: «Кто вас послал на этот след?
Скажите с места, или я стреляю».
Учитель мой промолвил: «Мы ответ
Дадим Хирону, под его защитой.
Ты был всегда горяч, себе во вред».
И, тронув плащ мой: «Это Несс, убитый
За Деяниру, гнев предсмертный свой
Запечатлевший местью знаменитой.
Тот, средний, со склоненной головой, —
Хирон, Ахиллов пестун величавый;
А третий — Фол, с душою грозовой.
Их толпы вдоль реки снуют облавой,
Стреляя в тех, кто, по своим грехам,
Всплывет не в меру из волны кровавой».
Мы подошли к проворным скакунам;
Хирон, браздой стрелы раздвинув клубы
Густых усов, пригладил их к щекам
И, опростав свои большие губы,
Сказал другим: «Вон тот, второй, пришлец,
Когда идет, шевелит камень грубый;
Так не ступает ни один мертвец».
Мой добрый вождь, к его приблизясь груди,
Где две природы сочетал стрелец,
Сказал: «Он жив, как все живые люди;
Я — вождь его сквозь сумрачный простор;
Он следует нужде, а не причуде.
А та, чей я свершаю приговор,
Сходя ко мне, прервала аллилуйя;
Я сам не грешный дух, и он не вор.
Верховной волей в страшный путь иду я.
Так пусть же с нами двинется в поход
Один из вас, дорогу указуя,
И этого на круп к себе возьмет
И переправит в месте неглубоком;
Ведь он не тень, что в воздухе плывет».
Хирон направо обратился боком
И молвил Нессу: «Будь проводником;
Других гони, коль встретишь ненароком».
Вдоль берега, над алым кипятком,
Вожатый нас повел без прекословии.
Был страшен крик варившихся живьем.
Один из них, опередивший стаю,
Кричал: «Кто вас послал на этот след?
Скажите с места, или я стреляю».
Учитель мой промолвил: «Мы ответ
Дадим Хирону, под его защитой.
Ты был всегда горяч, себе во вред».
И, тронув плащ мой: «Это Несс, убитый
За Деяниру, гнев предсмертный свой
Запечатлевший местью знаменитой.
Тот, средний, со склоненной головой, —
Хирон, Ахиллов пестун величавый;
А третий — Фол, с душою грозовой.
Их толпы вдоль реки снуют облавой,
Стреляя в тех, кто, по своим грехам,
Всплывет не в меру из волны кровавой».
Мы подошли к проворным скакунам;
Хирон, браздой стрелы раздвинув клубы
Густых усов, пригладил их к щекам
И, опростав свои большие губы,
Сказал другим: «Вон тот, второй, пришлец,
Когда идет, шевелит камень грубый;
Так не ступает ни один мертвец».
Мой добрый вождь, к его приблизясь груди,
Где две природы сочетал стрелец,
Сказал: «Он жив, как все живые люди;
Я — вождь его сквозь сумрачный простор;
Он следует нужде, а не причуде.
А та, чей я свершаю приговор,
Сходя ко мне, прервала аллилуйя;
Я сам не грешный дух, и он не вор.
Верховной волей в страшный путь иду я.
Так пусть же с нами двинется в поход
Один из вас, дорогу указуя,
И этого на круп к себе возьмет
И переправит в месте неглубоком;
Ведь он не тень, что в воздухе плывет».
Хирон направо обратился боком
И молвил Нессу: «Будь проводником;
Других гони, коль встретишь ненароком».
Вдоль берега, над алым кипятком,
Вожатый нас повел без прекословии.
Был страшен крик варившихся живьем.
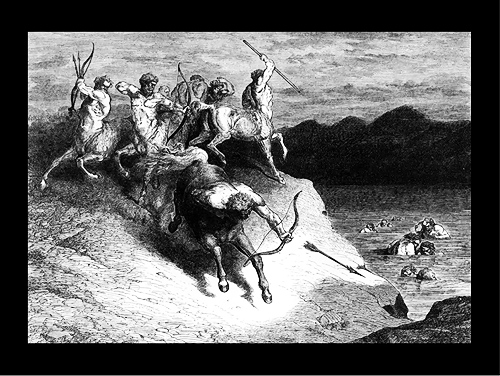 Я видел погрузившихся по брови.
Кентавр сказал: «Здесь не один тиран,
Который жаждал золота и крови:
Все, кто насильем осквернил свой сан.
Здесь Александр и Дионисий лютый,
Сицилии нанесший много ран;
Вот этот, с черной шерстью, — пресловутый
Граф Адзолино; светлый, рядом с ним, —
Обиццо д’Эсте, тот, что в мире смуты
Родимым сыном истреблен своим».
Поняв мой взгляд, вождь молвил, благосклонный:
«Здесь он да будет первым, я — вторым».
Потом мы подошли к неотдаленной
Толпе людей, где каждый был покрыт
По горло этой влагой раскаленной.
Мы видели — один вдали стоит.
Несс молвил: «Он пронзил под божьей сенью
То сердце, что над Темзой кровь точит».
Потом я видел, ниже по теченью,
Других, являвших плечи, грудь, живот;
Иной из них мне был знакомой тенью.
За пядью пядь, спадал волноворот,
И под конец он обжигал лишь ноги;
И здесь мы реку пересекли вброд.
«Как до сих пор, всю эту часть дороги, —
Сказал кентавр, — мелеет кипяток,
Так, дальше, снова под уклон отлогий
Уходит дно, и пучится поток,
И, полный круг смыкая там, где стонет
Толпа тиранов, он опять глубок.
Там под небесным гневом выю клонит
И Аттила, когда-то бич земли,
И Пирр, и Секст; там мука слезы гонит,
И вечным плачем лица обожгли
Риньер де’Пацци и Риньер Корнето,
Которые такой разбой вели».
Тут он помчался вспять и скрылся где-то.
Я видел погрузившихся по брови.
Кентавр сказал: «Здесь не один тиран,
Который жаждал золота и крови:
Все, кто насильем осквернил свой сан.
Здесь Александр и Дионисий лютый,
Сицилии нанесший много ран;
Вот этот, с черной шерстью, — пресловутый
Граф Адзолино; светлый, рядом с ним, —
Обиццо д’Эсте, тот, что в мире смуты
Родимым сыном истреблен своим».
Поняв мой взгляд, вождь молвил, благосклонный:
«Здесь он да будет первым, я — вторым».
Потом мы подошли к неотдаленной
Толпе людей, где каждый был покрыт
По горло этой влагой раскаленной.
Мы видели — один вдали стоит.
Несс молвил: «Он пронзил под божьей сенью
То сердце, что над Темзой кровь точит».
Потом я видел, ниже по теченью,
Других, являвших плечи, грудь, живот;
Иной из них мне был знакомой тенью.
За пядью пядь, спадал волноворот,
И под конец он обжигал лишь ноги;
И здесь мы реку пересекли вброд.
«Как до сих пор, всю эту часть дороги, —
Сказал кентавр, — мелеет кипяток,
Так, дальше, снова под уклон отлогий
Уходит дно, и пучится поток,
И, полный круг смыкая там, где стонет
Толпа тиранов, он опять глубок.
Там под небесным гневом выю клонит
И Аттила, когда-то бич земли,
И Пирр, и Секст; там мука слезы гонит,
И вечным плачем лица обожгли
Риньер де’Пацци и Риньер Корнето,
Которые такой разбой вели».
Тут он помчался вспять и скрылся где-то.
ПЕСНЬ ТРИНАДЦАТАЯ
Еще кентавр не пересек потока,
Как мы вступили в одичалый лес,
Где ни тропы не находило око.
Там бурых листьев сумрачен навес,
Там вьется в узел каждый сук ползущий,
Там нет плодов, и яд в шипах древес.
Такой унылой и дремучей пущи
От Чечины и до Корнето нет,
Приют зверью пустынному дающей.
Там гнезда гарпий, их поганый след,
Тех, что троян, закинутых кочевьем,
Прогнали со Строфад предвестьем бед.
С широкими крылами, с ликом девьим,
Когтистые, с пернатым животом,
Они тоскливо кличут по деревьям.
«Пред тем, как дальше мы с тобой пойдем, —
Так начал мой учитель, наставляя, —
Знай, что сейчас мы в поясе втором,
А там, за ним, пустыня огневая.
Здесь ты увидишь то, — добавил он, —
Чему бы не поверил, мне внимая».
Я отовсюду слышал громкий стон,
Но никого окрест не появлялось;
И я остановился, изумлен.
Учителю, мне кажется, казалось,
Что мне казалось, будто это крик
Толпы какой-то, что в кустах скрывалась.
И мне сказал мой мудрый проводник:
«Тебе любую ветвь сломать довольно,
Чтоб домысел твой рухнул в тот же миг».
Тогда я руку протянул невольно
К терновнику и отломил сучок;
И ствол воскликнул: «Не ломай, мне больно!»
В надломе кровью потемнел росток
И снова крикнул: «Прекрати мученья!
Ужели дух твой до того жесток?
Мы были люди, а теперь растенья.
И к душам гадов было бы грешно
Выказывать так мало сожаленья».
 И как с конца палимое бревно
От тока ветра и его накала
В другом конце трещит и слез полно,
Так раненое древо источало
Слова и кровь; я в ужасе затих,
И наземь ветвь из рук моих упала.
«Когда б он знал, что на путях своих, —
Ответил вождь мой жалобному звуку, —
Он встретит то, о чем вещал мой стих,
О бедный дух, он не простер бы руку.
Но чтоб он мог чудесное познать,
Тебя со скорбью я обрек на муку.
Скажи ему, кто ты; дабы воздать
Тебе добром, он о тебе вспомянет
В земном краю, куда взойдет опять».
И древо: «Твой призыв меня так манит,
Что не могу внимать ему, молча;
И пусть не в тягость вам рассказ мой станет.
Я тот, кто оба сберегал ключа
От сердца Федерика и вращал их
К затвору и к отвору, не звуча,
Хранитель тайн его, больших и малых.
Неся мой долг, который мне был свят,
Я не щадил ни сна, ни сил усталых.
Развратница, от кесарских палат
Не отводящая очей тлетворных,
Чума народов и дворцовый яд,
Так воспалила на меня придворных,
Что Август, их пыланьем воспылав,
Низверг мой блеск в пучину бедствий черных
Смятенный дух мой, вознегодовав,
Замыслил смертью помешать злословью,
И правый стал перед собой неправ.
Моих корней клянусь ужасной кровью,
Я жил и умер, свой обет храня,
И господину я служил любовью!
И тот из вас, кто выйдет к свету дня,
Пусть честь мою излечит от извета,
Которым зависть ранила меня!»
«Он смолк, — услышал я из уст поэта. —
Заговори с ним, — время не ушло, —
Когда ты ждешь на что-нибудь ответа».
«Спроси его что хочешь, что б могло
Быть мне полезным, — молвил я, смущенный. —
Я не решусь; мне слишком тяжело».
«Вот этот, — начал спутник благосклонный, —
Готов свершить тобой просимый труд.
А ты, о дух, в темницу заточенный,
Поведай нам, как душу в плен берут
Узлы ветвей; поведай, если можно,
Выходят ли когда из этих пут».
Тут ствол дохнул огромно и тревожно,
И в этом вздохе слову был исход:
«Ответ вам будет дан немногосложно.
Когда душа, ожесточась, порвет
Самоуправно оболочку тела,
Минос ее в седьмую бездну шлет.
Ей не дается точного предела;
Упав в лесу, как малое зерно,
Она растет, где ей судьба велела.
Зерно в побег и в ствол превращено;
И гарпии, кормясь его листами,
Боль создают и боли той окно.
Пойдем и мы за нашими телами,
Но их мы не наденем в Судный день:
Не наше то, что сбросили мы сами.
Мы их притащим в сумрачную сень,
И плоть повиснет на кусте колючем,
Где спит ее безжалостная тень».
Мы думали, что ствол, тоскою мучим,
Еще и дальше говорить готов,
Но услыхали шум в лесу дремучем,
Как на облаве внемлет зверолов,
Что мчится вепрь и вслед за ним борзые,
И слышит хруст растоптанных кустов.
И вот бегут, левее нас, нагие,
Истерзанные двое, меж ветвей,
Ломая грудью заросли тугие.
Передний: «Смерть, ко мне, ко мне скорей!»
Другой, который не отстать старался,
Кричал: «Сегодня, Лано, ты быстрей,
Чем был, когда у Топпо подвизался!»
Он, задыхаясь, посмотрел вокруг,
Свалился в куст и в груду с ним смешался.
А сзади лес был полон черных сук,
Голодных и бегущих без оглядки,
Как гончие, когда их спустят вдруг.
И как с конца палимое бревно
От тока ветра и его накала
В другом конце трещит и слез полно,
Так раненое древо источало
Слова и кровь; я в ужасе затих,
И наземь ветвь из рук моих упала.
«Когда б он знал, что на путях своих, —
Ответил вождь мой жалобному звуку, —
Он встретит то, о чем вещал мой стих,
О бедный дух, он не простер бы руку.
Но чтоб он мог чудесное познать,
Тебя со скорбью я обрек на муку.
Скажи ему, кто ты; дабы воздать
Тебе добром, он о тебе вспомянет
В земном краю, куда взойдет опять».
И древо: «Твой призыв меня так манит,
Что не могу внимать ему, молча;
И пусть не в тягость вам рассказ мой станет.
Я тот, кто оба сберегал ключа
От сердца Федерика и вращал их
К затвору и к отвору, не звуча,
Хранитель тайн его, больших и малых.
Неся мой долг, который мне был свят,
Я не щадил ни сна, ни сил усталых.
Развратница, от кесарских палат
Не отводящая очей тлетворных,
Чума народов и дворцовый яд,
Так воспалила на меня придворных,
Что Август, их пыланьем воспылав,
Низверг мой блеск в пучину бедствий черных
Смятенный дух мой, вознегодовав,
Замыслил смертью помешать злословью,
И правый стал перед собой неправ.
Моих корней клянусь ужасной кровью,
Я жил и умер, свой обет храня,
И господину я служил любовью!
И тот из вас, кто выйдет к свету дня,
Пусть честь мою излечит от извета,
Которым зависть ранила меня!»
«Он смолк, — услышал я из уст поэта. —
Заговори с ним, — время не ушло, —
Когда ты ждешь на что-нибудь ответа».
«Спроси его что хочешь, что б могло
Быть мне полезным, — молвил я, смущенный. —
Я не решусь; мне слишком тяжело».
«Вот этот, — начал спутник благосклонный, —
Готов свершить тобой просимый труд.
А ты, о дух, в темницу заточенный,
Поведай нам, как душу в плен берут
Узлы ветвей; поведай, если можно,
Выходят ли когда из этих пут».
Тут ствол дохнул огромно и тревожно,
И в этом вздохе слову был исход:
«Ответ вам будет дан немногосложно.
Когда душа, ожесточась, порвет
Самоуправно оболочку тела,
Минос ее в седьмую бездну шлет.
Ей не дается точного предела;
Упав в лесу, как малое зерно,
Она растет, где ей судьба велела.
Зерно в побег и в ствол превращено;
И гарпии, кормясь его листами,
Боль создают и боли той окно.
Пойдем и мы за нашими телами,
Но их мы не наденем в Судный день:
Не наше то, что сбросили мы сами.
Мы их притащим в сумрачную сень,
И плоть повиснет на кусте колючем,
Где спит ее безжалостная тень».
Мы думали, что ствол, тоскою мучим,
Еще и дальше говорить готов,
Но услыхали шум в лесу дремучем,
Как на облаве внемлет зверолов,
Что мчится вепрь и вслед за ним борзые,
И слышит хруст растоптанных кустов.
И вот бегут, левее нас, нагие,
Истерзанные двое, меж ветвей,
Ломая грудью заросли тугие.
Передний: «Смерть, ко мне, ко мне скорей!»
Другой, который не отстать старался,
Кричал: «Сегодня, Лано, ты быстрей,
Чем был, когда у Топпо подвизался!»
Он, задыхаясь, посмотрел вокруг,
Свалился в куст и в груду с ним смешался.
А сзади лес был полон черных сук,
Голодных и бегущих без оглядки,
Как гончие, когда их спустят вдруг.
 В упавшего, всей силой жадной хватки,
Они впились зубами на лету
И растащили бедные остатки.
Мой проводник повел меня к кусту;
А тот, в крови, оплакивал, стеная,
Своих поломов горькую тщету:
«О Джакомо да Сант-Андреа! Злая
Была затея защищаться мной!
Я ль виноват, что жизнь твоя дурная?»
Остановясь над ним, наставник мой
Промолвил: «Кем ты был, сквозь эти раны
Струящий с кровью скорбный голос свой?»
И он в ответ: «О души, в эти страны
Пришедшие сквозь вековую тьму,
Чтоб видеть в прахе мой покров раздранный,
Сгребите листья к терну моему!
Мой город — тот, где ради Иоанна
Забыт былой заступник; потому
Его искусство мстит нам неустанно;
И если бы поднесь у Арнских вод
Его частица не была сохранна,
То строившие сызнова оплот
На Аттиловом грозном пепелище —
Напрасно утруждали бы народ.
Я сам себя казнил в моем жилище».
В упавшего, всей силой жадной хватки,
Они впились зубами на лету
И растащили бедные остатки.
Мой проводник повел меня к кусту;
А тот, в крови, оплакивал, стеная,
Своих поломов горькую тщету:
«О Джакомо да Сант-Андреа! Злая
Была затея защищаться мной!
Я ль виноват, что жизнь твоя дурная?»
Остановясь над ним, наставник мой
Промолвил: «Кем ты был, сквозь эти раны
Струящий с кровью скорбный голос свой?»
И он в ответ: «О души, в эти страны
Пришедшие сквозь вековую тьму,
Чтоб видеть в прахе мой покров раздранный,
Сгребите листья к терну моему!
Мой город — тот, где ради Иоанна
Забыт былой заступник; потому
Его искусство мстит нам неустанно;
И если бы поднесь у Арнских вод
Его частица не была сохранна,
То строившие сызнова оплот
На Аттиловом грозном пепелище —
Напрасно утруждали бы народ.
Я сам себя казнил в моем жилище».
ПЕСНЬ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Объят печалью о местах, мне милых,
Я подобрал опавшие листы
И обессиленному возвратил их.
Пройдя сквозь лес, мы вышли у черты,
Где третий пояс лег внутри второго
И гневный суд вершится с высоты.
Дабы явить, что взору было ново,
Скажу, что нам, огромной пеленой,
Открылась степь, где нет ростка живого.
Злосчастный лес ее обвил каймой,
Как он и сам обвит рекой горючей;
Мы стали с краю, я и спутник мой.
Вся даль была сплошной песок сыпучий,
Как тот, который попирал Катон,
Из края в край пройдя равниной жгучей.
О божья месть, как тяжко устрашен
Быть должен тот, кто прочитает ныне,
На что мой взгляд был въяве устремлен!
Я видел толпы голых душ в пустыне:
Все плакали, в терзанье вековом,
Но разной обреченные судьбине.
Кто был повержен навзничь, вверх лицом,
Кто, съежившись, сидел на почве пыльной,
А кто сновал без устали кругом.
Разряд шагавших самый был обильный;
Лежавших я всех меньше насчитал,
Но вопль их скорбных уст был самый сильный.
А над пустыней медленно спадал
Дождь пламени, широкими платками,
Как снег в безветрии нагорных скал.
Как Александр, под знойными лучами
Сквозь Индию ведя свои полки,
Настигнут был падучими огнями
И приказал, чтобы его стрелки
Усерднее топтали землю, зная,
Что порознь легче гаснут языки, —
Так опускалась вьюга огневая;
И прах пылал, как под огнивом трут,
Мучения казнимых удвояя.
 И я смотрел, как вечный пляс ведут
Худые руки, стряхивая с тела
То здесь, то там огнепалящий зуд.
Я начал: «Ты, чья сила одолела
Все, кроме бесов, коими закрыт
Нам доступ был у грозного предела,
Кто это, рослый, хмуро так лежит,
Презрев пожар, палящий отовсюду?
Его и дождь, я вижу, не мягчит».
А тот, поняв, что я дивлюсь, как чуду,
Его гордыне, отвечал, крича:
«Каким я жил, таким и в смерти буду!
Пускай Зевес замучит ковача,
Из чьей руки он взял перун железный,
Чтоб в смертный день меня сразить сплеча,
Или пускай работой бесполезной
Всех в Монджибельской кузне надорвет,
Вопя: «Спасай, спасай. Вулкан любезный!»,
Как он над Флегрой возглашал с высот,
И пусть меня громит грозой всечасной, —
Веселой мести он не обретет!»
Тогда мой вождь воскликнул с силой страстной,
Какой я в нем не слышал никогда:
«О Капаней, в гордыне неугасной —
Твоя наитягчайшая беда:
Ты сам себя, в неистовстве великом,
Казнишь жесточе всякого суда».
И молвил мне, с уже спокойным ликом:
«Он был один из тех семи царей,
Что осаждали Фивы; в буйстве диком,
Гнушался богом — и не стал смирней;
Как я ему сказал, он по заслугам
Украшен славой дерзостных речей.
Теперь идем, как прежде, друг за другом;
Но не касайся жгучего песка,
А обходи, держась опушки, кругом».
В безмолвье мы дошли до ручейка,
Спешащего из леса быстрым током,
Чья алость мне и до сих пор жутка.
Как Буликаме убегает стоком,
В котором воду грешницы берут,
Так нистекал и он в песке глубоком.
Закраины, что по бокам идут,
И дно его, и склоны — камнем стали;
Я понял, что дорога наша — тут.
«Среди всего, что мы с тобой видали
С тех самых пор, как перешли порог,
Открытый всем входящим, ты едва ли
Чудеснее что-либо встретить мог,
Чем эта речка, силой испаренья
Смиряющая всякий огонек».
Так молвил вождь; взыскуя поученья,
Я попросил, чтоб, голоду вослед,
Он мне и пищу дал для утоленья.
«В средине моря, — молвил он в ответ, —
Есть ветхий край, носящий имя Крита,
Под чьим владыкой был безгрешен свет.
Меж прочих гор там Ида знаменита;
Когда-то влагой и листвой блестя,
Теперь она пустынна и забыта.
Ей Рея вверила свое дитя,
Ища ему приюта и опеки
И плачущего шумом защитя.
В горе стоит великий старец некий;
Он к Дамиате обращен спиной
И к Риму, как к зерцалу, поднял веки.
Он золотой сияет головой,
А грудь и руки — серебро литое,
И дальше — медь, дотуда, где раздвои;
Затем — железо донизу простое,
Но глиняная правая плюсна,
И он на ней почил, как на устое.
Вся плоть, от шеи вниз, рассечена,
И капли слез сквозь трещины струятся,
И дно пещеры гложет их волна.
В подземной глубине из них родятся
И Ахерон, и Стикс, и Флегетон;
Потом они сквозь этот сток стремятся,
Чтоб там, внизу, последний минув склон,
Создать Коцит; но умолчу про это;
Ты вскоре сам увидишь тот затон».
Я молвил: «Если из земного света
Досюда эта речка дотекла,
Зачем она от нас таилась где-то?»
И он: «Вся эта впадина кругла;
Хотя и шел ты многими тропами
Все влево, опускаясь в глубь жерла,
Но полный круг еще не пройден нами;
И если случай новое принес,
То не дивись смущенными очами».
«А Лета где? — вновь задал я вопрос. —
Где Флегетон? Ее ты не отметил,
А тот, ты говоришь, возник из слез».
«Ты правильно спросил, — мой вождь ответил.
Но в клокотаньи этих алых вод
Одну разгадку ты воочью встретил.
Придешь и к Лете, но она течет
Там, где душа восходит к омовенью,
Когда вина избытая спадет».
Потом сказал: «Теперь мы с этой сенью
Простимся; следуй мне и след храни:
Тропа идет вдоль русла, по теченью,
Где влажный воздух гасит все огни».
И я смотрел, как вечный пляс ведут
Худые руки, стряхивая с тела
То здесь, то там огнепалящий зуд.
Я начал: «Ты, чья сила одолела
Все, кроме бесов, коими закрыт
Нам доступ был у грозного предела,
Кто это, рослый, хмуро так лежит,
Презрев пожар, палящий отовсюду?
Его и дождь, я вижу, не мягчит».
А тот, поняв, что я дивлюсь, как чуду,
Его гордыне, отвечал, крича:
«Каким я жил, таким и в смерти буду!
Пускай Зевес замучит ковача,
Из чьей руки он взял перун железный,
Чтоб в смертный день меня сразить сплеча,
Или пускай работой бесполезной
Всех в Монджибельской кузне надорвет,
Вопя: «Спасай, спасай. Вулкан любезный!»,
Как он над Флегрой возглашал с высот,
И пусть меня громит грозой всечасной, —
Веселой мести он не обретет!»
Тогда мой вождь воскликнул с силой страстной,
Какой я в нем не слышал никогда:
«О Капаней, в гордыне неугасной —
Твоя наитягчайшая беда:
Ты сам себя, в неистовстве великом,
Казнишь жесточе всякого суда».
И молвил мне, с уже спокойным ликом:
«Он был один из тех семи царей,
Что осаждали Фивы; в буйстве диком,
Гнушался богом — и не стал смирней;
Как я ему сказал, он по заслугам
Украшен славой дерзостных речей.
Теперь идем, как прежде, друг за другом;
Но не касайся жгучего песка,
А обходи, держась опушки, кругом».
В безмолвье мы дошли до ручейка,
Спешащего из леса быстрым током,
Чья алость мне и до сих пор жутка.
Как Буликаме убегает стоком,
В котором воду грешницы берут,
Так нистекал и он в песке глубоком.
Закраины, что по бокам идут,
И дно его, и склоны — камнем стали;
Я понял, что дорога наша — тут.
«Среди всего, что мы с тобой видали
С тех самых пор, как перешли порог,
Открытый всем входящим, ты едва ли
Чудеснее что-либо встретить мог,
Чем эта речка, силой испаренья
Смиряющая всякий огонек».
Так молвил вождь; взыскуя поученья,
Я попросил, чтоб, голоду вослед,
Он мне и пищу дал для утоленья.
«В средине моря, — молвил он в ответ, —
Есть ветхий край, носящий имя Крита,
Под чьим владыкой был безгрешен свет.
Меж прочих гор там Ида знаменита;
Когда-то влагой и листвой блестя,
Теперь она пустынна и забыта.
Ей Рея вверила свое дитя,
Ища ему приюта и опеки
И плачущего шумом защитя.
В горе стоит великий старец некий;
Он к Дамиате обращен спиной
И к Риму, как к зерцалу, поднял веки.
Он золотой сияет головой,
А грудь и руки — серебро литое,
И дальше — медь, дотуда, где раздвои;
Затем — железо донизу простое,
Но глиняная правая плюсна,
И он на ней почил, как на устое.
Вся плоть, от шеи вниз, рассечена,
И капли слез сквозь трещины струятся,
И дно пещеры гложет их волна.
В подземной глубине из них родятся
И Ахерон, и Стикс, и Флегетон;
Потом они сквозь этот сток стремятся,
Чтоб там, внизу, последний минув склон,
Создать Коцит; но умолчу про это;
Ты вскоре сам увидишь тот затон».
Я молвил: «Если из земного света
Досюда эта речка дотекла,
Зачем она от нас таилась где-то?»
И он: «Вся эта впадина кругла;
Хотя и шел ты многими тропами
Все влево, опускаясь в глубь жерла,
Но полный круг еще не пройден нами;
И если случай новое принес,
То не дивись смущенными очами».
«А Лета где? — вновь задал я вопрос. —
Где Флегетон? Ее ты не отметил,
А тот, ты говоришь, возник из слез».
«Ты правильно спросил, — мой вождь ответил.
Но в клокотаньи этих алых вод
Одну разгадку ты воочью встретил.
Придешь и к Лете, но она течет
Там, где душа восходит к омовенью,
Когда вина избытая спадет».
Потом сказал: «Теперь мы с этой сенью
Простимся; следуй мне и след храни:
Тропа идет вдоль русла, по теченью,
Где влажный воздух гасит все огни».
ПЕСНЬ ПЯТНАДЦАТАЯ
Вот мы идем вдоль каменного края;
А над ручьем обильный пар встает,
От пламени плотину избавляя.
Как у фламандцев выстроен оплот
Меж Бруджей и Гвидзантом, чтоб заране
Предотвратить напор могучих вод,
И как вдоль Бренты строят падуане,
Чтоб замок и посад был защищен,
Пока не дышит зной на Кьярентане,
Так сделаны и эти, с двух сторон,
Хоть и не столь высоко и широко
Их создал мастер, кто бы ни был он.
Уже от рощи были мы далеко,
И сколько б я ни обращался раз,
Я к ней напрасно устремлял бы око.
Навстречу нам шли тени и на нас
Смотрели снизу, глаз сощуря в щелку,
Как в новолунье люди, в поздний час,
Друг друга озирают втихомолку;
И каждый бровью пристально повел,
Как старый швец, вдевая нить в иголку.
Одним из тех, кто, так взирая, шел,
Я был опознан. Вскрикнув: «Что за диво!»
Он ухватил меня за мой подол.
Я в опаленный лик взглянул пытливо,
Когда рукой он взялся за кайму,
И темный образ явственно и живо
Себя открыл рассудку моему;
Склонясь к лицу, где пламень выжег пятна:
«Вы, сэр Брунетто?» — молвил я ему.
 И он: «Мой сын, тебе не неприятно,
Чтобы, покинув остальных, с тобой
Латино чуточку прошел обратно?»
Я отвечал: «Прошу вас всей душой;
А то, хотите, я присяду с вами,
Когда на то согласен спутник мой».
И он: «Мой сын, кто из казнимых с нами
Помедлит миг, потом лежит сто лет,
Не шевелясь, бичуемый огнями.
Ступай вперед; я — низом, вам вослед;
Потом вернусь к дружине, вопиющей
О вечности своих великих бед».
Я не посмел идти равниной жгущей
Бок о бок с ним; но головой поник,
Как человек, почтительно идущий.
Он начал: «Что за рок тебя подвиг
Спуститься раньше смерти в царство это?
И кто, скажи мне, этот проводник?»
«Там, наверху, — я молвил, — в мире света,
В долине заблудился я одной,
Не завершив мои земные лета.
Вчера лишь утром к ней я стал спиной,
Но отступил; тогда его я встретил,
И вот он здесь ведет меня домой».
«Звезде твоей доверься, — он ответил, —
И в пристань славы вступит твой челнок,
Коль в милой жизни верно я приметил.
И если б я не умер в ранний срок,
То, видя путь твой, небесам угодный,
В твоих делах тебе бы я помог.
Но этот злой народ неблагородный,
Пришедший древле с Фьезольских высот
И до сих пор горе и камню сродный,
За все добро врагом тебя сочтет:
Среди худой рябины не пристало
Смоковнице растить свой нежный плод.
Слепыми их прозвали изначала;
Завистливый, надменный, жадный люд;
Общенье с ним тебя бы запятнало.
В обоих станах, увидав твой труд,
Тебя взалкают; только по-пустому,
И клювы их травы не защипнут.
Пусть фьезольские твари, как солому,
Пожрут себя, не трогая росток,
Коль в их навозе место есть такому,
Который семя чистое сберег
Тех римлян, что когда-то основались
В гнездилище неправды и тревог».
«Когда бы все мои мольбы свершались, —
Ответил я, — ваш день бы не угас,
И вы с людьми еще бы не расстались.
Во мне живет, и горек мне сейчас,
Ваш отчий образ, милый и сердечный,
Того, кто наставлял меня не раз,
Как человек восходит к жизни вечной;
И долг пред вами я, в свою чреду,
Отмечу словом в жизни быстротечной.
Я вашу речь запечатлел и жду,
Чтоб с ней другие записи сличила
Та, кто умеет, если к ней взойду.
Но только знайте: лишь бы не корила
Мне душу совесть, я в сужденный миг
Готов на все, что предрекли светила.
К таким посулам я уже привык;
Так пусть Фортуна колесом вращает,
Как ей угодно, и киркой — мужик!»
Тут мой учитель на меня взирает
Чрез правое плечо и говорит:
«Разумно слышит тот, кто примечает».
Меж тем и сэр Брунетто не молчит
На мой вопрос, кто из его собратий
Особенно высок и знаменит.
Он молвил так: «Иных отметить кстати;
Об остальных похвально умолчать,
Да и не счесть такой обильной рати.
То люди церкви, лучшая их знать,
Ученые, известные всем странам;
Единая пятнает их печать.
В том скорбном сонме — вместе с Присцианом
Аккурсиев Франциск; и я готов
Сказать, коль хочешь, и о том поганом,
Который послан был рабом рабов
От Арно к Баккильоне, где и скинул
Плотской, к дурному влекшийся, покров.
Еще других я назвал бы; но минул
Недолгий срок беседы и пути:
Песок, я вижу, новой пылью хлынул;
От этих встречных должен я уйти,
Храни мой клад, я в нем живым остался;
Прошу тебя лишь это соблюсти».
Он обернулся и бегом помчался,
Как те, кто под Вероною бежит
К зеленому сукну, причем казался
Тем, чья победа, а не тем, чей стыд.
И он: «Мой сын, тебе не неприятно,
Чтобы, покинув остальных, с тобой
Латино чуточку прошел обратно?»
Я отвечал: «Прошу вас всей душой;
А то, хотите, я присяду с вами,
Когда на то согласен спутник мой».
И он: «Мой сын, кто из казнимых с нами
Помедлит миг, потом лежит сто лет,
Не шевелясь, бичуемый огнями.
Ступай вперед; я — низом, вам вослед;
Потом вернусь к дружине, вопиющей
О вечности своих великих бед».
Я не посмел идти равниной жгущей
Бок о бок с ним; но головой поник,
Как человек, почтительно идущий.
Он начал: «Что за рок тебя подвиг
Спуститься раньше смерти в царство это?
И кто, скажи мне, этот проводник?»
«Там, наверху, — я молвил, — в мире света,
В долине заблудился я одной,
Не завершив мои земные лета.
Вчера лишь утром к ней я стал спиной,
Но отступил; тогда его я встретил,
И вот он здесь ведет меня домой».
«Звезде твоей доверься, — он ответил, —
И в пристань славы вступит твой челнок,
Коль в милой жизни верно я приметил.
И если б я не умер в ранний срок,
То, видя путь твой, небесам угодный,
В твоих делах тебе бы я помог.
Но этот злой народ неблагородный,
Пришедший древле с Фьезольских высот
И до сих пор горе и камню сродный,
За все добро врагом тебя сочтет:
Среди худой рябины не пристало
Смоковнице растить свой нежный плод.
Слепыми их прозвали изначала;
Завистливый, надменный, жадный люд;
Общенье с ним тебя бы запятнало.
В обоих станах, увидав твой труд,
Тебя взалкают; только по-пустому,
И клювы их травы не защипнут.
Пусть фьезольские твари, как солому,
Пожрут себя, не трогая росток,
Коль в их навозе место есть такому,
Который семя чистое сберег
Тех римлян, что когда-то основались
В гнездилище неправды и тревог».
«Когда бы все мои мольбы свершались, —
Ответил я, — ваш день бы не угас,
И вы с людьми еще бы не расстались.
Во мне живет, и горек мне сейчас,
Ваш отчий образ, милый и сердечный,
Того, кто наставлял меня не раз,
Как человек восходит к жизни вечной;
И долг пред вами я, в свою чреду,
Отмечу словом в жизни быстротечной.
Я вашу речь запечатлел и жду,
Чтоб с ней другие записи сличила
Та, кто умеет, если к ней взойду.
Но только знайте: лишь бы не корила
Мне душу совесть, я в сужденный миг
Готов на все, что предрекли светила.
К таким посулам я уже привык;
Так пусть Фортуна колесом вращает,
Как ей угодно, и киркой — мужик!»
Тут мой учитель на меня взирает
Чрез правое плечо и говорит:
«Разумно слышит тот, кто примечает».
Меж тем и сэр Брунетто не молчит
На мой вопрос, кто из его собратий
Особенно высок и знаменит.
Он молвил так: «Иных отметить кстати;
Об остальных похвально умолчать,
Да и не счесть такой обильной рати.
То люди церкви, лучшая их знать,
Ученые, известные всем странам;
Единая пятнает их печать.
В том скорбном сонме — вместе с Присцианом
Аккурсиев Франциск; и я готов
Сказать, коль хочешь, и о том поганом,
Который послан был рабом рабов
От Арно к Баккильоне, где и скинул
Плотской, к дурному влекшийся, покров.
Еще других я назвал бы; но минул
Недолгий срок беседы и пути:
Песок, я вижу, новой пылью хлынул;
От этих встречных должен я уйти,
Храни мой клад, я в нем живым остался;
Прошу тебя лишь это соблюсти».
Он обернулся и бегом помчался,
Как те, кто под Вероною бежит
К зеленому сукну, причем казался
Тем, чья победа, а не тем, чей стыд.
ПЕСНЬ ШЕСТНАДЦАТАЯ Уже вблизи я слышал гул тяжелый Воды, спадавшей в следующий круг, Как если бы гудели в ульях пчелы, — Когда три тени отделились вдруг, Метнувшись к нам, от шедшей вдоль потока Толпы, гонимой ливнем жгучих мук. Спеша, они взывали издалека: «Постой! Мы по одежде признаем, Что ты пришел из города порока!» О, сколько язв, изглоданных огнем, Являл очам их облик несчастливый! Мне больно даже вспоминать о нем. Мой вождь сказал, услышав их призывы И обратясь ко мне: «Повремени. Нам нужно показать, что мы учтивы. Я бы сказал, когда бы не огни, Разящие, как стрелы, в этом зное, Что должен ты спешить, а не они». Чуть мы остановились, те былое Возобновили пенье; к нам домчась, Они кольцом забегали все трое. Как голые атлеты, умастясь, Друг против друга кружат по арене, Чтобы потом схватиться, изловчась, Так возле нас кружили эти тени, Лицом ко мне, вращая шею вспять, Когда вперед стремились их колени. «Увидев эту взрыхленную гладь, — Воззвал один, — и облик наш кровавый, Ты нас, просящих, должен презирать; Но преклонись, во имя нашей славы, Сказать нам, кто ты, адскою тропой Идущий мимо нас, живой и здравый! Вот этот, чьи следы я мну стопой, — Хоть голый он и струпьями изрытый, Был выше, чем ты думаешь, судьбой. Он внуком был Гвальдрады именитой И звался Гвидо Гверра, в мире том Мечом и разуменьем знаменитый. Тот, пыль толкущий за моим плечом, — Теггьяйо Альдобранди, чьи заслуги Великим должно поминать добром. И я, страдалец этой жгучей вьюги, Я, Рустикуччи, распят здесь, виня В моих злосчастьях нрав моей супруги». Будь у меня защита от огня, Я бросился бы к ним с тропы прибрежной, И мой мудрец одобрил бы меня; Но, устрашенный болью неизбежной, Я побоялся кинуться к теням И к сердцу их прижать с приязнью нежной. Потом я начал: «Не презренье к вам, А скорбь о вашем горестном уделе Вошла мне в душу, чтоб остаться там, Когда мой вождь, завидев вас отселе, Сказал слова, явившие сполна, Что вы такие, как и есть на деле. Отчизна с вами у меня одна; И я любил и почитал измлада Ваш громкий труд и ваши имена. Отвергнув желчь, взыскую яблок сада, Обещанного мне вождем моим; Но прежде к средоточью пасть мне надо». «Да будешь долго ты руководим, — Ответил он, — душою в теле здравом; Да светит слава по следам твоим! Скажи: любовь к добру и к честным нравам Еще живет ли в городе у нас, Иль разбрелась давно по всем заставам? Гульельмо Борсиере, здесь как раз Теперь казнимый, — вон он там, в пустыне, — Принес с собой нерадостный рассказ». «Ты предалась беспутству и гордыне, Пришельцев и наживу обласкав, Флоренция, тоскующая ныне!» Так я вскричал, лицо мое подняв; Они переглянулись, вняв ответу, Подобно тем, кто слышит, что был прав. «Когда все просьбы так легко, как эту, Ты утоляешь, — отклик их гласил, — Счастливец ты, дарящий правду свету! Да узришь снова красоту светил, Простясь с неозаренными местами! Тогда, с отрадой вспомянув: «Я был», Скажи другим, что ты видался с нами!» И тут они помчались вдоль пути, И ноги их казались мне крылами. Нельзя «аминь» быстрей произнести, Чем их сокрыли дали кругозора; И мой учитель порешил идти. Я двинулся вослед за ним; и скоро Послышался так близко грохот вод, Что заглушил бы звуки разговора. Как та река, которая свой ход От Монте-Везо в сторону рассвета По Апеннинам первая ведет, Зовясь в своем верховье Аквакета, Чтоб устремиться к низменной стране И у Форли утратить имя это, И громыхает вниз по крутизне, К Сан-Бенедетто Горному спадая, Где тысяча вместилась бы вполне, — Так, рушась вглубь с обрывистого края, Мы слышали, багровый вал гремит, Мгновенной болью ухо поражая. Стан у меня веревкой был обвит; Я думал ею рысь поймать когда-то, Которой мех так весело блестит. Я снял ее и, повинуясь свято, Вручил ее поэту моему, Смотав плотней для лучшего обхвата. Он, боком став и так, чтобы ему Не зацепить за выступы обрыва, Швырнул ее в зияющую тьму. «На странный знак не странное ли диво, — Сказал я втайне, — явит глубина, Раз и учитель смотрит так пытливо?» Увы, какая сдержанность нужна Близ тех, кто судит не одни деянья, Но видит самый разум наш до дна! «Сейчас всплывет, — сказал наставник знанья, — То, что я жду и сам ты смутно ждешь; Сейчас твой взор достигнет созерцанья». Мы истину, похожую на ложь, Должны хранить сомкнутыми устами, Иначе срам безвинно наживешь; Но здесь молчать я не могу; стихами Моей Комедии клянусь, о чтец, — И милость к ней да не прейдет с годами, — Я видел — к нам из бездны, как пловец, Взмывал какой-то образ возраставший, Чудесный и для дерзостных сердец; Так снизу возвращается нырявший, Который якорь выпростать помог, В камнях иль в чем-нибудь другом застрявший, И правит станом и толчками ног.
ПЕСНЬ СЕМНАДЦАТАЯ
Вот острохвостый зверь, сверлящий горы,
Пред кем ничтожны и стена, и меч;
Вот, кто земные отравил просторы».
 Такую мой вожатый начал речь,
Рукою подзывая великана
Близ пройденного мрамора возлечь.
И образ омерзительный обмана,
Подплыв, но хвост к себе не подобрав,
Припал на берег всей громадой стана.
Он ясен был лицом и величав
Спокойством черт приветливых и чистых,
Но остальной змеиным был состав.
Две лапы, волосатых и когтистых;
Спина его, и брюхо, и бока —
В узоре пятен и узлов цветистых.
Пестрей основы и пестрей утка
Ни турок, ни татарин не сплетает;
Хитрей Арахна не ткала платка.
Как лодка на причале отдыхает,
Наполовину погрузясь в волну;
Как там, где алчный немец обитает,
Садится бобр вести свою войну, —
Так лег и гад на камень оголенный,
Сжимающий песчаную страну.
Хвост шевелился в пустоте бездонной,
Крутя торчком отравленный развил,
Как жало скорпиона заостренный.
«Теперь нам нужно, — вождь проговорил, —
Свернуть с дороги, поступь отклоняя
Туда, где гнусный зверь на камни всплыл».
Так мы спустились вправо и, вдоль края,
Пространство десяти шагов прошли,
Песка и жгучих хлопьев избегая.
Приблизясь, я увидел невдали
Толпу людей, которая сидела
Близ пропасти в сжигающей пыли.
И мне мой вождь: «Чтоб этот круг всецело
Исследовать во всех его частях,
Ступай, взгляни, в чем разность их удела.
Но будь короче там в твоих речах;
А я поговорю с поганым дивом,
Чтоб нам спуститься на его плечах».
И я пошел еще раз над обрывом,
Каймой седьмого круга, одинок,
К толпе, сидевшей в горе молчаливом.
Из глаз у них стремился скорбный ток;
Они все время то огонь летучий
Руками отстраняли, то песок.
Так чешутся собаки в полдень жгучий,
Обороняясь лапой или ртом
От блох, слепней и мух, насевших кучей.
Я всматривался в лица их кругом,
В которые огонь вонзает жала;
Но вид их мне казался незнаком.
У каждого на грудь мошна свисала,
Имевшая особый знак и цвет,
И очи им как будто услаждала.
Так, на одном я увидал кисет,
Где в желтом поле был рисунок синий,
Подобный льву, вздыбившему хребет.
А на другом из мучимых пустыней
Мешочек был, подобно крови, ал
И с белою, как молоко, гусыней.
Один, чей белый кошелек являл
Свинью, чреватую и голубую,
Сказал мне: «Ты зачем сюда попал?
Ступай себе, раз носишь плоть живую,
И знай, что Витальяно, мой земляк,
Придет и сядет от меня ошую.
Меж этих флорентийцев я чужак,
Я падуанец; мне их голос грубый
Все уши протрубил: «Где наш вожак,
С тремя козлами, наш герой сугубый?».
Он высунул язык и скорчил рот,
Как бык, когда облизывает губы.
И я, боясь, не сердится ли тот,
Кто мне велел недолго оставаться,
Покинул истомившийся народ.
Тем временем мой вождь успел взобраться
Дурному зверю на спину — и мне
Промолвил так: «Теперь пора мужаться!
Вот, как отсюда сходят к глубине.
Сядь спереди, я буду сзади, рядом,
Чтоб хвост его безвреден был вполне».
Как человек, уже объятый хладом
Пред лихорадкой, с синевой в ногтях,
Дрожит, чуть только тень завидит взглядом, —
Так я смутился при его словах;
Но как слуга пред смелым господином,
Стыдом язвимый, я откинул страх.
Я поместился на хребте зверином;
Хотел промолвить: «Обними меня», —
Но голоса я не был властелином.
Такую мой вожатый начал речь,
Рукою подзывая великана
Близ пройденного мрамора возлечь.
И образ омерзительный обмана,
Подплыв, но хвост к себе не подобрав,
Припал на берег всей громадой стана.
Он ясен был лицом и величав
Спокойством черт приветливых и чистых,
Но остальной змеиным был состав.
Две лапы, волосатых и когтистых;
Спина его, и брюхо, и бока —
В узоре пятен и узлов цветистых.
Пестрей основы и пестрей утка
Ни турок, ни татарин не сплетает;
Хитрей Арахна не ткала платка.
Как лодка на причале отдыхает,
Наполовину погрузясь в волну;
Как там, где алчный немец обитает,
Садится бобр вести свою войну, —
Так лег и гад на камень оголенный,
Сжимающий песчаную страну.
Хвост шевелился в пустоте бездонной,
Крутя торчком отравленный развил,
Как жало скорпиона заостренный.
«Теперь нам нужно, — вождь проговорил, —
Свернуть с дороги, поступь отклоняя
Туда, где гнусный зверь на камни всплыл».
Так мы спустились вправо и, вдоль края,
Пространство десяти шагов прошли,
Песка и жгучих хлопьев избегая.
Приблизясь, я увидел невдали
Толпу людей, которая сидела
Близ пропасти в сжигающей пыли.
И мне мой вождь: «Чтоб этот круг всецело
Исследовать во всех его частях,
Ступай, взгляни, в чем разность их удела.
Но будь короче там в твоих речах;
А я поговорю с поганым дивом,
Чтоб нам спуститься на его плечах».
И я пошел еще раз над обрывом,
Каймой седьмого круга, одинок,
К толпе, сидевшей в горе молчаливом.
Из глаз у них стремился скорбный ток;
Они все время то огонь летучий
Руками отстраняли, то песок.
Так чешутся собаки в полдень жгучий,
Обороняясь лапой или ртом
От блох, слепней и мух, насевших кучей.
Я всматривался в лица их кругом,
В которые огонь вонзает жала;
Но вид их мне казался незнаком.
У каждого на грудь мошна свисала,
Имевшая особый знак и цвет,
И очи им как будто услаждала.
Так, на одном я увидал кисет,
Где в желтом поле был рисунок синий,
Подобный льву, вздыбившему хребет.
А на другом из мучимых пустыней
Мешочек был, подобно крови, ал
И с белою, как молоко, гусыней.
Один, чей белый кошелек являл
Свинью, чреватую и голубую,
Сказал мне: «Ты зачем сюда попал?
Ступай себе, раз носишь плоть живую,
И знай, что Витальяно, мой земляк,
Придет и сядет от меня ошую.
Меж этих флорентийцев я чужак,
Я падуанец; мне их голос грубый
Все уши протрубил: «Где наш вожак,
С тремя козлами, наш герой сугубый?».
Он высунул язык и скорчил рот,
Как бык, когда облизывает губы.
И я, боясь, не сердится ли тот,
Кто мне велел недолго оставаться,
Покинул истомившийся народ.
Тем временем мой вождь успел взобраться
Дурному зверю на спину — и мне
Промолвил так: «Теперь пора мужаться!
Вот, как отсюда сходят к глубине.
Сядь спереди, я буду сзади, рядом,
Чтоб хвост его безвреден был вполне».
Как человек, уже объятый хладом
Пред лихорадкой, с синевой в ногтях,
Дрожит, чуть только тень завидит взглядом, —
Так я смутился при его словах;
Но как слуга пред смелым господином,
Стыдом язвимый, я откинул страх.
Я поместился на хребте зверином;
Хотел промолвить: «Обними меня», —
Но голоса я не был властелином.
 Тот, кто и прежде был моя броня,
И без того поняв мою тревогу,
Меня руками обхватил, храня,
И молвил: «Герион, теперь в дорогу!
Смотри, о новой ноше не забудь:
Ровней кружи и падай понемногу».
Как лодка с места трогается в путь
Вперед кормой, так он оттуда снялся
И, ощутив простор, направил грудь
Туда, где хвост дотоле извивался;
Потом как угорь выпрямился он
И, загребая лапами, помчался.
Не больше был испуган Фаэтон,
Бросая вожжи, коими задетый
Небесный свод доныне опален,
Или Икар, почуя воск согретый,
От перьев обнажавший рамена,
И слыша зов отца: «О сын мой, где ты?» —
Чем я, увидев, что кругом одна
Пустая бездна воздуха чернеет
И только зверя высится спина.
А он все вглубь и вглубь неспешно реет,
Но это мне лишь потому вдогад,
Что ветер мне в лицо и снизу веет.
Уже я справа слышал водопад,
Грохочущий под нами, и пугливо
Склонил над бездной голову и взгляд;
Но пуще оробел, внизу обрыва
Увидев свет огней и слыша крик,
И отшатнулся, ежась боязливо.
И только тут я в первый раз постиг
Спуск и круженье, видя муку злую
Со всех сторон все ближе каждый миг.
Как сокол, мощь утратив боевую,
И птицу и вабило тщетно ждав, —
Так что сокольник скажет: «Эх, впустую!»
На место взлета клонится, устав,
И, опоясав сто кругов сначала,
Вдали от всех садится, осерчав, —
Так Герион осел на дно провала,
Там, где крутая кверху шла скала,
И, чуть с него обуза наша спала,
Взмыл и исчез, как с тетивы стрела.
Тот, кто и прежде был моя броня,
И без того поняв мою тревогу,
Меня руками обхватил, храня,
И молвил: «Герион, теперь в дорогу!
Смотри, о новой ноше не забудь:
Ровней кружи и падай понемногу».
Как лодка с места трогается в путь
Вперед кормой, так он оттуда снялся
И, ощутив простор, направил грудь
Туда, где хвост дотоле извивался;
Потом как угорь выпрямился он
И, загребая лапами, помчался.
Не больше был испуган Фаэтон,
Бросая вожжи, коими задетый
Небесный свод доныне опален,
Или Икар, почуя воск согретый,
От перьев обнажавший рамена,
И слыша зов отца: «О сын мой, где ты?» —
Чем я, увидев, что кругом одна
Пустая бездна воздуха чернеет
И только зверя высится спина.
А он все вглубь и вглубь неспешно реет,
Но это мне лишь потому вдогад,
Что ветер мне в лицо и снизу веет.
Уже я справа слышал водопад,
Грохочущий под нами, и пугливо
Склонил над бездной голову и взгляд;
Но пуще оробел, внизу обрыва
Увидев свет огней и слыша крик,
И отшатнулся, ежась боязливо.
И только тут я в первый раз постиг
Спуск и круженье, видя муку злую
Со всех сторон все ближе каждый миг.
Как сокол, мощь утратив боевую,
И птицу и вабило тщетно ждав, —
Так что сокольник скажет: «Эх, впустую!»
На место взлета клонится, устав,
И, опоясав сто кругов сначала,
Вдали от всех садится, осерчав, —
Так Герион осел на дно провала,
Там, где крутая кверху шла скала,
И, чуть с него обуза наша спала,
Взмыл и исчез, как с тетивы стрела.
ПЕСНЬ ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Есть место в преисподней. Злые Щели,
Сплошь каменное, цвета чугуна,
Как кручи, что вокруг отяготели.
Посереди зияет глубина
Широкого и темного колодца,
О коем дальше расскажу сполна.
А тот уступ, который остается,
Кольцом меж бездной и скалой лежит,
И десять впадин в нем распознается.
Каков у местности бывает вид,
Где замок, для осады укрепленный,
Снаружи стен рядами рвов обвит,
Таков и здесь был дол изборожденный;
И как от самых крепостных ворот
Ведут мосты на берег отдаленный,
Так от подножья каменных высот
Шли гребни скал чрез рвы и перекаты,
Чтоб у колодца оборвать свой ход.
Здесь опустился Герион хвостатый
И сбросил нас обоих со спины;
И влево путь направил мой вожатый
Я шел, и справа были мне видны
Уже другая скорбь и казнь другая,
Какие в первом рву заключены.
Там в два ряда текла толпа нагая;
Ближайший ряд к нам направлял стопы,
А дальний — с нами, но крупней шагая.
Так римляне, чтобы наплыв толпы,
В год юбилея, не привел к затору,
Разгородили мост на две тропы,
И по одной народ идет к собору,
Взгляд обращая к замковой стене,
А по другой идут навстречу, в гору.
То здесь, то там в кремнистой глубине
Виднелся бес рогатый, взмахом плети
Жестоко бивший грешных по спине.
 О, как проворно им удары эти
Вздымали пятки! Ни один не ждал,
Пока второй обрушится иль третий.
Пока я шел вперед, мой взор упал
На одного; и я воскликнул: «Где-то
Его лицом я взгляд уже питал».
Я стал, стараясь распознать, кто это,
И добрый вождь, остановясь со мной,
Нагнать его мне не чинил запрета.
Бичуемый, скрывая облик свой,
Склонил чело; но труд пропал впустую;
Я молвил: «Ты, с поникшей головой,
Когда наружность носишь не чужую, —
Венедико Каччанемико. Чем
Ты заслужил приправу столь крутую?»
И он: «Я не ответил бы совсем,
Но мне твоя прямая речь велела
Припомнить мир старинный. Я был тем,
Кто постарался, чтоб Гизолабелла
Послушалась маркиза, хоть и врут
Различное насчет срамного дела.
Не первый я болонец плачу тут;
Их понабилась здесь такая кипа,
Что столько языков не наберут
Меж Савеной и Рено молвить sipa;
Немудрено: мы с алчностью своей
До смертного не расстаемся хрипа».
Тут некий бес, среди его речей,
Стегнул его хлыстом и огрызнулся:
«Ну, сводник! Здесь не бабы, поживей!»
Я к моему вожатому вернулся;
Пройдя немного, мы пришли туда,
Где длинный гребень от скалы тянулся.
Мы на него взобрались без труда
И с этим истязуемым народом,
Направо взяв, расстались навсегда.
И там, где гребень нависает сводом,
Чтоб дать толпе бичуемой пройти, —
Мой вождь сказал: «Постой — и мимоходом
Свои глаза на этих обрати,
Которых ты еще не видел лица,
Пока им было с нами по пути».
Под древний мост спешила вереница
Второго ряда, двигаясь на нас,
Стегаемая, как и та станица.
И вождь, не ждав вопроса этот раз,
Сказал: «Взгляни вот на того, большого:
Ему и боль не увлажняет глаз.
Как полон он величества былого!
То мудрый и отважный властелин,
Ясон, руна стяжатель золотого.
Приплыв на Лемнос средь морских пучин,
Где женщины, отринув все, что свято,
Предали смерти всех своих мужчин,
Он обманул, украсив речь богато,
Младую Гипсипилу, в свой черед
Товарок обманувшую когда-то.
Ее он бросил там понесшей плод;
За это он так и бичуем злобно,
И также за Медею казнь несет.
С ним те, кто обманул ему подобно;
Про первый ров и тех, кто стиснут в нем,
Нет нужды ведать более подробно».
Достигнув места, где тропа крестом
Пересекает грань второго вала,
Чтоб дальше снова выгнуться мостом,
Мы слышали, как в ближнем рву визжала
И рылом хрюкала толпа людей
И там себя ладонями хлестала.
Откосы покрывал тягучий клей
От снизу подымавшегося чада,
Несносного для глаз и для ноздрей.
Дно скрыто глубоко внизу, и надо,
Дабы увидеть, что такое там,
Взойти на мост, где есть простор для взгляда.
Туда взошли мы, и моим глазам
Предстали толпы влипших в кал зловонный,
Как будто взятый из отхожих ям.
О, как проворно им удары эти
Вздымали пятки! Ни один не ждал,
Пока второй обрушится иль третий.
Пока я шел вперед, мой взор упал
На одного; и я воскликнул: «Где-то
Его лицом я взгляд уже питал».
Я стал, стараясь распознать, кто это,
И добрый вождь, остановясь со мной,
Нагнать его мне не чинил запрета.
Бичуемый, скрывая облик свой,
Склонил чело; но труд пропал впустую;
Я молвил: «Ты, с поникшей головой,
Когда наружность носишь не чужую, —
Венедико Каччанемико. Чем
Ты заслужил приправу столь крутую?»
И он: «Я не ответил бы совсем,
Но мне твоя прямая речь велела
Припомнить мир старинный. Я был тем,
Кто постарался, чтоб Гизолабелла
Послушалась маркиза, хоть и врут
Различное насчет срамного дела.
Не первый я болонец плачу тут;
Их понабилась здесь такая кипа,
Что столько языков не наберут
Меж Савеной и Рено молвить sipa;
Немудрено: мы с алчностью своей
До смертного не расстаемся хрипа».
Тут некий бес, среди его речей,
Стегнул его хлыстом и огрызнулся:
«Ну, сводник! Здесь не бабы, поживей!»
Я к моему вожатому вернулся;
Пройдя немного, мы пришли туда,
Где длинный гребень от скалы тянулся.
Мы на него взобрались без труда
И с этим истязуемым народом,
Направо взяв, расстались навсегда.
И там, где гребень нависает сводом,
Чтоб дать толпе бичуемой пройти, —
Мой вождь сказал: «Постой — и мимоходом
Свои глаза на этих обрати,
Которых ты еще не видел лица,
Пока им было с нами по пути».
Под древний мост спешила вереница
Второго ряда, двигаясь на нас,
Стегаемая, как и та станица.
И вождь, не ждав вопроса этот раз,
Сказал: «Взгляни вот на того, большого:
Ему и боль не увлажняет глаз.
Как полон он величества былого!
То мудрый и отважный властелин,
Ясон, руна стяжатель золотого.
Приплыв на Лемнос средь морских пучин,
Где женщины, отринув все, что свято,
Предали смерти всех своих мужчин,
Он обманул, украсив речь богато,
Младую Гипсипилу, в свой черед
Товарок обманувшую когда-то.
Ее он бросил там понесшей плод;
За это он так и бичуем злобно,
И также за Медею казнь несет.
С ним те, кто обманул ему подобно;
Про первый ров и тех, кто стиснут в нем,
Нет нужды ведать более подробно».
Достигнув места, где тропа крестом
Пересекает грань второго вала,
Чтоб дальше снова выгнуться мостом,
Мы слышали, как в ближнем рву визжала
И рылом хрюкала толпа людей
И там себя ладонями хлестала.
Откосы покрывал тягучий клей
От снизу подымавшегося чада,
Несносного для глаз и для ноздрей.
Дно скрыто глубоко внизу, и надо,
Дабы увидеть, что такое там,
Взойти на мост, где есть простор для взгляда.
Туда взошли мы, и моим глазам
Предстали толпы влипших в кал зловонный,
Как будто взятый из отхожих ям.
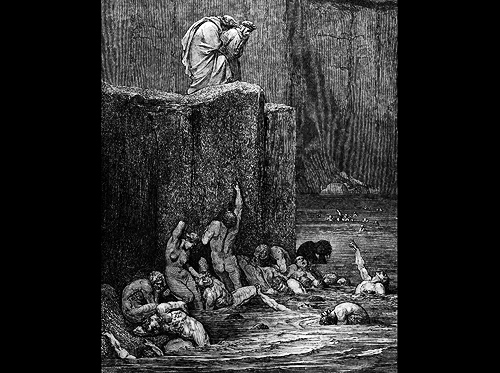 Там был один, так густо отягченный
Дерьмом, что вряд ли кто бы отгадал,
Мирянин это или постриженный.
Он крикнул мне: «Ты что облюбовал
Меня из всех, кто вязнет в этой прели?»
И я в ответ: «Ведь я тебя встречал,
И кудри у тебя тогда блестели;
Я и смотрю, что тут невдалеке
Погряз Алессио Интерминелли».
И он, себя темяша по башке:
«Сюда попал я из-за льстивой речи,
Которую носил на языке».
Потом мой вождь: «Нагни немного плечи, —
Промолвил мне, — и наклонись вперед,
И ты увидишь: тут вот, недалече
Себя ногтями грязными скребет
Косматая и гнусная паскуда
И то присядет, то опять вскокнет.
Фаида эта, жившая средь блуда,
Сказала как-то на вопрос дружка:
«Ты мной довольна?» — «Нет, ты просто чудо!»
Но мы наш взгляд насытили пока».
Там был один, так густо отягченный
Дерьмом, что вряд ли кто бы отгадал,
Мирянин это или постриженный.
Он крикнул мне: «Ты что облюбовал
Меня из всех, кто вязнет в этой прели?»
И я в ответ: «Ведь я тебя встречал,
И кудри у тебя тогда блестели;
Я и смотрю, что тут невдалеке
Погряз Алессио Интерминелли».
И он, себя темяша по башке:
«Сюда попал я из-за льстивой речи,
Которую носил на языке».
Потом мой вождь: «Нагни немного плечи, —
Промолвил мне, — и наклонись вперед,
И ты увидишь: тут вот, недалече
Себя ногтями грязными скребет
Косматая и гнусная паскуда
И то присядет, то опять вскокнет.
Фаида эта, жившая средь блуда,
Сказала как-то на вопрос дружка:
«Ты мной довольна?» — «Нет, ты просто чудо!»
Но мы наш взгляд насытили пока».
ПЕСНЬ ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
О Симон-волхв, о присных сонм злосчастный,
Вы, что святыню божию, Добра
Невесту чистую, в алчбе ужасной
Растлили ради злата и сребра,
Теперь о вас, казнимых в третьей щели,
Звенеть трубе назначена пора!
Уже над новым рвом мы одолели
Горбатый мост и прямо с высоты
На середину впадины смотрели.
О Высший Разум, как искусен ты
Горе, и долу, и в жерле проклятом,
И сколько показуешь правоты!
Повсюду, и вдоль русла, и по скатам,
Я увидал неисчислимый ряд
Округлых скважин в камне сероватом.
Они совсем такие же на взгляд,
Как те, в моем прекрасном Сан-Джованни,
Где таинство крещения творят.
Я, отрока спасая от страданий,
В недавний год одну из них разбил:
И вот печать, в защиту от шептаний!
Из каждой ямы грешник шевелил
Торчащими по голени ногами,
А туловищем в камень уходил.
 У всех огонь змеился над ступнями;
Все так брыкались, что крепчайший жгут
Порвался бы, не совладав с толчками.
Как если нечто маслистое жгут
И лишь поверхность пламенем задета, —
Так он от пят к ногтям скользил и тут.
«Учитель, — молвил я, — скажи, кто это,
Что корчится всех больше и оброс
Огнем такого пурпурного цвета?»
И он мне: «Хочешь, чтоб тебя я снес
Вниз, той грядой, которая положе?
Он сам тебе ответит на вопрос».
И я: «Что хочешь ты, мне мило тоже;
Ты знаешь все, хотя бы я молчал;
Ты — господин, чья власть мне всех дороже».
Тогда мы вышли на четвертый вал
И, влево взяв, спустились в крутоскатый
И дырами зияющий провал.
Меня не раньше отстранил вожатый
От ребр своих, чем подойдя к тому,
Кто так ногами плакал, в яме сжатый.
«Кто б ни был ты, поверженный во тьму
Вниз головой и вкопанный, как свая,
Ответь, коль можешь», — молвил я ему.
Так духовник стоит, исповедая
Казнимого, который вновь зовет
Из-под земли, кончину отдаляя.
«Как, Бонифаций, — отозвался тот, —
Ты здесь уже, ты здесь уже так рано?
На много лет, однако, список врет.
Иль ты устал от роскоши и сана,
Из-за которых лучшую средь жен,
На муку ей, добыл стезей обмана?»
Я был как тот, кто словно пристыжен,
Когда ему немедля возразили,
А он не понял и стоит, смущен.
«Скажи ему, — промолвил мне Вергилий: —
«Нет, я не тот, не тот, кого ты ждешь».
И я ответил так, как мне внушили.
Тут грешника заколотила дрожь,
И вздох его и скорбный стон раздался:
«Тогда зачем же ты меня зовешь?
Когда, чтобы услышать, как я звался,
Ты одолеть решился этот скат,
Знай: я великой ризой облекался.
Воистину медведицей зачат,
Радея медвежатам, я так жадно
Копил добро, что сам в кошель зажат.
Там, подо мной, набилось их изрядно,
Церковных торгашей, моих предтеч,
Расселинами стиснутых нещадно.
И мне придется в глубине залечь,
Сменившись тем, кого я по догадке
Сейчас назвал, ведя с тобою речь.
Но я здесь дольше обжигаю пятки,
И срок ему торчать вот так стремглав,
Сравнительно со мной, назначен краткий;
Затем что вслед, всех в скверне обогнав,
Придет с заката пастырь без закона,
И, нас покрыв, он будет только прав.
Как, в Маккавейских книгах, Иасона
Лелеял царь, так и к нему щедра
Французская окажется корона».
Хоть речь моя едва ль была мудра,
Но я слова привел к такому строю:
«Скажи: каких сокровищ от Петра
Ждал наш господь, прельщен ли был казною,
Когда ключи во власть ему вверял?
Он молвил лишь одно: «Иди за мною».
Петру и прочим платы не вручал
Матвей, когда то место опустело,
Которое отпавший потерял.
Торчи же здесь; ты пострадал за дело;
И крепче деньги грешные храни,
С которыми на Карла шел так смело.
И если бы я сердцем искони,
И даже здесь, не чтил ключей верховных,
Тебе врученных в радостные дни,
Я бы в речах излился громословных;
Вы алчностью растлили христиан,
Топча благих и вознося греховных.
Вас, пастырей, провидел Иоанн
В той, что воссела на водах со славой
И деет блуд с царями многих стран;
В той, что на свет родилась семиглавой,
Десятирогой и хранила нас,
Пока ее супруг был жизни правой.
Сребро и злато — ныне бог для вас;
И даже те, кто молится кумиру,
Чтят одного, вы чтите сто зараз.
О Константин, каким злосчастьем миру
Не к истине приход твой был чреват,
А этот дар твой пастырю и клиру!»
Пока я пел ему на этот лад,
Он, совестью иль гневом уязвленный,
Не унимал лягающихся пят.
А вождь глядел с улыбкой благосклонной,
Как бы довольный тем, что так правдив
Звук этой речи, мной произнесенной.
Обеими руками подхватив,
Меня к груди прижал он и початым
Уже путем вернулся на обрыв;
Не утомленный бременем подъятым,
На самую дугу меня он взнес,
Четвертый вал смыкающую с пятым,
И бережно поставил на утес,
Тем бережней, что дикая стремнина
Была бы трудной тропкой и для коз;
Здесь новая открылась мне ложбина.
У всех огонь змеился над ступнями;
Все так брыкались, что крепчайший жгут
Порвался бы, не совладав с толчками.
Как если нечто маслистое жгут
И лишь поверхность пламенем задета, —
Так он от пят к ногтям скользил и тут.
«Учитель, — молвил я, — скажи, кто это,
Что корчится всех больше и оброс
Огнем такого пурпурного цвета?»
И он мне: «Хочешь, чтоб тебя я снес
Вниз, той грядой, которая положе?
Он сам тебе ответит на вопрос».
И я: «Что хочешь ты, мне мило тоже;
Ты знаешь все, хотя бы я молчал;
Ты — господин, чья власть мне всех дороже».
Тогда мы вышли на четвертый вал
И, влево взяв, спустились в крутоскатый
И дырами зияющий провал.
Меня не раньше отстранил вожатый
От ребр своих, чем подойдя к тому,
Кто так ногами плакал, в яме сжатый.
«Кто б ни был ты, поверженный во тьму
Вниз головой и вкопанный, как свая,
Ответь, коль можешь», — молвил я ему.
Так духовник стоит, исповедая
Казнимого, который вновь зовет
Из-под земли, кончину отдаляя.
«Как, Бонифаций, — отозвался тот, —
Ты здесь уже, ты здесь уже так рано?
На много лет, однако, список врет.
Иль ты устал от роскоши и сана,
Из-за которых лучшую средь жен,
На муку ей, добыл стезей обмана?»
Я был как тот, кто словно пристыжен,
Когда ему немедля возразили,
А он не понял и стоит, смущен.
«Скажи ему, — промолвил мне Вергилий: —
«Нет, я не тот, не тот, кого ты ждешь».
И я ответил так, как мне внушили.
Тут грешника заколотила дрожь,
И вздох его и скорбный стон раздался:
«Тогда зачем же ты меня зовешь?
Когда, чтобы услышать, как я звался,
Ты одолеть решился этот скат,
Знай: я великой ризой облекался.
Воистину медведицей зачат,
Радея медвежатам, я так жадно
Копил добро, что сам в кошель зажат.
Там, подо мной, набилось их изрядно,
Церковных торгашей, моих предтеч,
Расселинами стиснутых нещадно.
И мне придется в глубине залечь,
Сменившись тем, кого я по догадке
Сейчас назвал, ведя с тобою речь.
Но я здесь дольше обжигаю пятки,
И срок ему торчать вот так стремглав,
Сравнительно со мной, назначен краткий;
Затем что вслед, всех в скверне обогнав,
Придет с заката пастырь без закона,
И, нас покрыв, он будет только прав.
Как, в Маккавейских книгах, Иасона
Лелеял царь, так и к нему щедра
Французская окажется корона».
Хоть речь моя едва ль была мудра,
Но я слова привел к такому строю:
«Скажи: каких сокровищ от Петра
Ждал наш господь, прельщен ли был казною,
Когда ключи во власть ему вверял?
Он молвил лишь одно: «Иди за мною».
Петру и прочим платы не вручал
Матвей, когда то место опустело,
Которое отпавший потерял.
Торчи же здесь; ты пострадал за дело;
И крепче деньги грешные храни,
С которыми на Карла шел так смело.
И если бы я сердцем искони,
И даже здесь, не чтил ключей верховных,
Тебе врученных в радостные дни,
Я бы в речах излился громословных;
Вы алчностью растлили христиан,
Топча благих и вознося греховных.
Вас, пастырей, провидел Иоанн
В той, что воссела на водах со славой
И деет блуд с царями многих стран;
В той, что на свет родилась семиглавой,
Десятирогой и хранила нас,
Пока ее супруг был жизни правой.
Сребро и злато — ныне бог для вас;
И даже те, кто молится кумиру,
Чтят одного, вы чтите сто зараз.
О Константин, каким злосчастьем миру
Не к истине приход твой был чреват,
А этот дар твой пастырю и клиру!»
Пока я пел ему на этот лад,
Он, совестью иль гневом уязвленный,
Не унимал лягающихся пят.
А вождь глядел с улыбкой благосклонной,
Как бы довольный тем, что так правдив
Звук этой речи, мной произнесенной.
Обеими руками подхватив,
Меня к груди прижал он и початым
Уже путем вернулся на обрыв;
Не утомленный бременем подъятым,
На самую дугу меня он взнес,
Четвертый вал смыкающую с пятым,
И бережно поставил на утес,
Тем бережней, что дикая стремнина
Была бы трудной тропкой и для коз;
Здесь новая открылась мне ложбина.
ПЕСНЬ ДВАДЦАТАЯ О новой муке повествую ныне В двадцатой песни первой из канцон, Которая о гибнущих в пучине. Уже смотреть я был расположен В провал, раскрытый предо мной впервые, Который скорбным плачем орошен; И видел в круглом рву толпы немые, Свершавшие в слезах неспешный путь, Как в этом мире водят литании. Когда я взору дал по ним скользнуть, То каждый оказался странно скручен В том месте, где к лицу подходит грудь; Челом к спине повернут и беззвучен, Он, пятясь задом, направлял свой шаг И видеть прямо был навек отучен. Возможно, что кому-нибудь столбняк, Как этим, и сводил все тело разом, — Не знаю, но навряд ли это так. Читатель, — и господь моим рассказом Тебе урок да преподаст благой, — Помысли, мог ли я невлажным глазом Взирать вблизи на образ наш земной, Так свернутый, что плач очей печальный Меж ягодиц струился бороздой. Я плакал, опершись на выступ скальный. «Ужель твое безумье таково? — Промолвил мне мой спутник достохвальный. Здесь жив к добру тот, в ком оно мертво. Не те ли всех тяжеле виноваты, Кто ропщет, если судит божество? Взгляни, взгляни, вот он, землею взятый, Пожранный ею на глазах фивян, Когда они воскликнули: «Куда ты, Амфиарай? Что бросил ратный стан?», А он все вглубь свергался без оглядки, Пока Миносом не был обуздан. Ты видишь — в грудь он превратил лопатки: За то, что взором слишком вдаль проник, Он смотрит взад, стремясь туда, где пятки. А вот Тиресий, изменивший лик, Когда, в жену из мужа превращенный, Всем естеством преобразился вмиг; И лишь потом, змеиный клуб сплетенный Ударив вновь, он стал таким, как был, В мужские перья снова облаченный. А следом Арунс надвигает тыл; Там, где над Луни громоздятся горы И где каррарец пажити взрыхлил, Он жил в пещере мраморной и взоры Свободно и в ночные небеса, И на морские устремлял просторы. А та, чья гривой падает коса, Покров грудям незримым образуя, Как прочие незримы волоса, Была Манто; из края в край кочуя, Она пришла в родные мне места; И вот об этом рассказать хочу я. Когда она осталась сирота И принял рабство Вакхов град злосчастный, Она скиталась долгие лета. Там, наверху, в Италии прекрасной, У гор, замкнувших Манью рубежом Вблизи Тиралли, спит Бенако ясный. Ключи, которых сотни мы начтем Меж Валькамбникой и Гардой, склоны Пеннинских Альп омыв, стихают в нем. Там место есть, где пастыри Вероны, И Брешьи, и Тридента, путь свершив, Благословить могли бы люд крещеный. Оплот Пескьеры, мощен и красив, Стоит, грозя бергамцам и брешьянам, Там, где низиной окружен залив. Все то, что в лоне уместить песчаном Не мог Бенако, — устремясь сюда, Течет рекой по травяным полянам. Начав бежать из озера, вода Зовется Минчо, чтобы у Говерно В потоке По исчезнуть навсегда. Встречая падь, на полпути примерно, Она стоит, разлившись в топкий пруд, А летом чахнет, но и губит верно. Безжалостная дева, идя тут, Среди болота сушу присмотрела, Нагой и невозделанный приют. И здесь она, чуждаясь всех, осела Со слугами, гаданьям предана, И здесь рассталась с оболочкой тела. Рассеянные кругом племена Потом сюда стянулись, ибо знали, Что эта суша заводью сильна. Над мертвой костью город основали И, по избравшей древле этот дол, Без волхвований Мантуей назвали. Он многолюдней прежде был и цвел, Пока недальновидных Касалоди Лукавый Пинамонте не провел. И если ты услышал бы в народе Не эту быль о родине моей, Знай — это ложь и с истиной в разброде». И я: «Учитель, повестью твоей Я убежден и верю нерушимо. Мне хладный уголь — речь других людей. Но молви мне: среди идущих мимо Есть кто-нибудь, кто взор бы твой привлек? Во мне лишь этим сердце одержимо». И он: «Вот тот, чья борода от щек Вниз по спине легла на смуглом теле, — В те дни, когда у греков ты бы мог Найти мужчину только в колыбели Был вещуном; в Авлиде сечь канат Он и Калхант совместно повелели. То Эврипил; и про него звучат Стихи моей трагедии высокой. Тебе ль не знать? Ты помнишь всю подряд. А следующий, этот худобокой, Звался Микеле Скотто и большим В волшебных плутнях почитался докой. А вот Бонатти; вот Азденте с ним; Жалеет он о коже и о шиле, Да опоздал с раскаяньем своим. Вот грешницы, которые забыли Иглу, челнок и прялку, ворожа; Варили травы, куколок лепили. Но нам пора; коснулся рубежа Двух полусфер и за Севильей в волны Нисходит Каин, хворост свой держа, А месяц был уж прошлой ночью полный: Ты помнишь сам, как в глубине лесной Был благотворен свет его безмолвный». Так, на ходу, он говорил со мной.
ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ Так с моста на мост, говоря немало Стороннего Комедии моей, Мы перешли, чтоб с кручи перевала Увидеть новый росщеп Злых Щелей И новые напрасные печали; Он вскрылся, чуден чернотой своей. И как в венецианском арсенале Кипит зимой тягучая смола, Чтоб мазать струги, те, что обветшали, И все справляют зимние дела: Тот ладит весла, этот забивает Щель в кузове, которая текла; Кто чинит нос, а кто корму клепает; Кто трудится, чтоб сделать новый струг; Кто снасти вьет, кто паруса платает, — Так, силой не огня, но божьих рук, Кипела подо мной смола густая, На скосы налипавшая вокруг. Я видел лишь ее, что в ней — не зная, Когда она вздымала пузыри, То пучась вся, то плотно оседая. Я силился увидеть, что внутри, Как вдруг мой вождь меня рукой хранящей Привлек к себе, сказав: «Смотри, смотри!» Оборотясь, как тот, кто от грозящей Ему беды отвесть не может глаз, И обессилен робостью томящей, И убегает и глядит зараз, — Я увидал, как некий дьявол черный Вверх по крутой тропе бежит на нас. О, что за облик он имел злотворный! И до чего казался мне жесток, Раскинув крылья и в ступнях проворный! Он грешника накинул, как мешок, На острое плечо и мчал на скалы, Держа его за сухожилья ног. Взбежав на мост, сказал: «Эй, Загребалы, Святая Дзита шлет вам старшину! Кунайте! Выбор в городе немалый,
Я к ним еще разочек загляну.
Там лишь Бонтуро не живет на взятки,
Там «нет» на «да» меняют за казну».
Швырнув его, помчался без оглядки
Вниз со скалы; и пес таким рывком
Не кинется вцепиться вору в пятки.
Тот канул, всплыл с измазанным лицом,
Но бесы закричали из-под моста:
«Святого Лика мы не признаем!
И тут не Серкьо, плавают не просто!
Когда не хочешь нашего крюка,
Ныряй назад в смолу». И зубьев до ста
Вонзились тут же грешнику в бока.
«Пляши, но не показывай макушки;
А можешь, так плутуй исподтишка».
Так повара следят, чтобы их служки
Топили мясо вилками в котле
И не давали плавать по верхушке.
Учитель молвил: «Чтобы на скале
Остаться незамеченным, укройся
За выступом и припади к земле.
А для меня опасности не бойся:
Я здесь не первый раз, и я привык
К подобным стычкам, ты не беспокойся».
Покинул мост мой добрый проводник;
Когда он шел шестой надбрежной кручей,
Он должен был являть спокойный лик.
С такой же точно яростью кипучей,
Как псы бросаются на бедняка,
Который просит всюду, где есть случай,
Они рванулись прочь из-под мостка
И стали наступать, грозя крюками;
Но он вскричал: «Не будьте злы пока
И подождите рвать меня зубцами!
С одним из вас я речь вести хочу,
А там, как быть со мной, решайте сами».
Все закричали: «Выйти Хвостачу!»
Один пошел, а прочие глядели;
Он шел, ворча: «Чего я хлопочу?»
Мой вождь сказал: «Скажи, Хвостач, ужели,
Нетронут вашей злобой, я бы мог
Прийти сюда, когда б не так хотели
Господня воля и содружный рок?
Посторонись; мне небо указало
Пройти с другим сквозь этот дикий лог».
Тогда гордыня в бесе так упала,
Что свой багор он уронил к ногам
И молвил к тем: «С ним драться не пристало»
И вождь ко мне: «О ты, который там,
Среди камней, укрылся боязливо,
Сойди без страха по моим следам».
К нему я шаг направил торопливо,
А дьяволы подвинулись вперед,
И я боялся, что их слово лживо.
Так, видел я, боялся ратный взвод,
По уговору выйдя из Капроны
И недругов увидев грозный счет.
И я всем телом, ждущим обороны,
Прильнул к вождю и пристально следил,
Как злобен облик их и взгляд каленый.
Нагнув багор, бес бесу говорил:
«Что, если бы его пощупать с тыла?»
Тот отвечал: «Вот, вот, да так, чтоб взвыл!»
Но демон, тот, который вышел было,
Чтоб разговор с вождем моим вести,
Его окликнул: «Тише, Тормошило!»
Потом сказал нам: «Дальше не пройти
Вам этим гребнем; и пытать бесплодно:
Шестой обрушен мост, и нет пути.
Чтоб выйти все же, если вам угодно,
Ступайте этим валом, там, где след,
И ближним гребнем выйдете свободно.
Двенадцать сот и шестьдесят шесть лет
Вчера, на пять часов поздней, успело
Протечь с тех пор, как здесь дороги нет.
У наших в тех местах как раз есть дело —
Взглянуть, не прохлаждается ль народ;
Не бойтесь их, идите с ними смело».
«Эй, Косокрыл, и ты, Старик, в поход! —
Он начал говорить. — И ты, Собака;
А Борода десятником пойдет.
В придачу к ним Дракон и Забияка,
Клыкастый Боров и Собачий Зуд,
Да Рыжик лютый, да еще Кривляка.
Вы осмотрите весь кипящий пруд;
А эти до ближайшего отрога,
Который цел, пусть здравыми дойдут».
«Что вижу я, учитель? Ради бога,
Не нужно спутников, пойдем одни, —
Сказал я. — Ты же знаешь, где дорога.
Когда ты зорок, как всегда, взгляни:
Не видишь разве их кивков ужасных
И как зубами лязгают они?»
Не надо страхов и тревог напрасных;
Пусть лязгают себе, — мой вождь сказал, —
Чтоб напугать варимых там несчастных».

Тут бесы двинулись на левый вал, Но каждый, в тайный знак, главе отряда Сперва язык сквозь зубы показал, И тот трубу изобразил из зада.
ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ Я конных ратей видывал движенья, В час грозных сеч, в походах, на смотрах, А то и в бегстве, в поисках спасенья; Я видывал наезды, вам на страх, О аретинцы, видел натиск бранный, Турнирный бой на копьях и мечах, — Под трубный звук, набатный, барабанный, Или по знаку с башен, как когда, На итальянский лад и чужестранный; Но не видал, чтобы чудней дуда Звучала конным, пешим иль ветрилам, Когда маячит берег иль звезда. Мы шли с десятком бесов; вот уж в милом Сообществе! Но в церкви, говорят, Почет святым, а в кабачке — кутилам. Лишь на смолу я обращал мой взгляд, Чтоб видеть свойства этой котловины И что за люди там внутри горят. Как мореходам знак дают дельфины, Чтоб те успели уберечь свой струг, И над волнами изгибают спины, — Так иногда, для обегченья мук, Иной всплывал, лопатки выставляя, И, молнии быстрей, скрывался вдруг. И как во рву, расположась вдоль края, Торчат лягушки рыльцем из воды, Брюшко и лапки ниже укрывая, — Так грешники торчали в две гряды, Но, увидав, что Борода крадется, Ныряли в кипь, спасаясь от беды. Один — как вспомню, сердце ужаснется — Заждался; так одна лягушка, всплыв, Нырнет назад, другая остается. Собачий Зуд, всех ближе, зацепив Багром за космы, слипшиеся туго, Втащил его, как выдру, на обрыв. Я помнил прозвища всего их круга: С тех пор, как их избрали, я в пути Следил, как бесы кликали друг друга. «Эй, Рыжик, забирай его, когти, — Наперебой проклятые кричали, — Так, чтоб ему и шкуры не найти!» И я сказал: «Учитель мой, нельзя ли Узнать, кто этот жалкий лиходей, Которого враги к рукам прибрали?» Мой вождь к нему подвинулся плотней, И тот сказал, в ответ на обращенье: «Я был наваррец. Матерью моей Я отдан был вельможе в услуженье, Затем что мой отец был дрянь и голь, Себя сгубивший и свое именье. Меня приблизил добрый мой король, Тебальд; я взятки брал, достигнув власти, И вот плачусь, окунут в эту смоль». Тут Боров, у которого из пасти Торчали бивни, как у кабана, Одним из них стал рвать его на части. Увидели коты, что мышь вкусна; Но Борода, обвив его руками, Сказал: «Оставьте, помощь не нужна». Потом, к вождю оборотясь глазами: «Ты, если хочешь, побеседуй с ним, Пока его не разнесли баграми». И вождь: «Скажи, из тех, кто здесь казним, Не знаешь ли каких-нибудь латинян, В смоле?» И тот: «Сейчас я был с одним Из мест, откуда путь до них недлинен. Мне крюк и коготь был бы нипочем, Будь я, как он, опять в смолу заклинен». Тут Забияка: «Больно долго ждем!» — Сказал, рванул ему багром предплечье И выхватил клок мяса целиком. Тогда Дракон решил нанесть увечье Пониже в ноги; но грозою глаз Десятник их пресек противоречье. Они смирились и на этот раз, А тот смотрел, как плоть его разрыта; И спутник мой спросил его тотчас: «Кто это был, кому нашлась защита, Когда, на горе, ты остался тут?» И он ответил: «Это брат Гомита, Что из Галлуры, всякой лжи сосуд, Схватив злодеев своего владыки, Он сделал так, что те хвалу поют. Всех отпустил за деньги, скрыв улики, Как говорит; корысти не тая, Мздоимец был не малый, но великий. Он и Микеле Цанке здесь друзья; Тот — логодорец; вечно каждый хвалит Былые дни сардинского житья. Ой, посмотрите, как он зубы скалит! Я продолжал бы, да того гляди — Он мне крюком всю спину измочалит». Начальник, увидав, что впереди Стал Забияка, изготовясь к бою, Сказал: «Ты, злая птица, отойди!» «Угодно вам увидеть пред собою, — Так оробевший речь повел опять, — Тосканцев и ломбардцев, — я устрою. Но Загребалам дальше нужно стать, Чтоб нашим знать, что их никто не ранит; А я, один тут сидя, вам достать Хоть семерых берусь; их сразу взманит, Чуть свистну, — как у нас заведено, Лишь только кто-нибудь наружу глянет». Собака вскинул морду и, чудно Мотая головой, сказал: «Вот штуку Ловкач затеял, чтоб нырнуть на дно!» И тот, набивший на коварствах руку, Ему ответил: «Подлинно ловкач, Когда своим же отягчаю муку!» Тут Косокрыл, который был горяч, Сказал, не в лад другим: «Скакнешь в пучину, — Тебе вдогонку я пущусь не вскачь, А просто крылья над смолой раскину. Мы спустимся с бугра и станем там; Посмотрим, нашу ль проведешь дружину!» Внемли, читатель, новым чудесам: В ту сторону все повернули шеи, И первым тот, кто больше был упрям. Наваррец выбрал время, половчее Уперся в землю пятками и вмиг Сигнул и ускользнул от их затеи.
 И тотчас в каждом горький стыд возник;
Всех больше злился главный заправило;
Он прыгнул, крикнув: «Я тебя настиг!»
Но понапрасну: крыльям трудно было
Поспеть за страхом; тот ко дну пошел,
И, вскинув грудь, бес кверху взмыл уныло.
Так селезень ныряет наукол,
Чтобы в воде от сокола укрыться,
А тот летит обратно, хмур и зол.
Старик, все так же продолжая злиться,
Летел вослед, желая всей душой,
Чтоб плут исчез и повод был схватиться.
Едва мздоимец скрылся с головой,
Он на собрата тотчас двинул ногти,
И дьяволы сцепились над смолой.
Но тот не хуже, чтоб нацелить когти,
Был ястреб-перемыт, и их тела
Вмиг очутились в раскаленном дегте.
Их сразу жгучесть пекла разняла;
Но вызволиться было невозможно,
Настолько прочно влипли их крыла.
Тут Борода, как все, томясь тревожно,
Велел, чтоб четверо, забрав багры,
Перелетели ров; все безотложно
И там и тут спустились на бугры;
Они к увязшим протянули крючья,
А те уже спеклись внутри коры;
И мы ушли в разгар их злополучья.
И тотчас в каждом горький стыд возник;
Всех больше злился главный заправило;
Он прыгнул, крикнув: «Я тебя настиг!»
Но понапрасну: крыльям трудно было
Поспеть за страхом; тот ко дну пошел,
И, вскинув грудь, бес кверху взмыл уныло.
Так селезень ныряет наукол,
Чтобы в воде от сокола укрыться,
А тот летит обратно, хмур и зол.
Старик, все так же продолжая злиться,
Летел вослед, желая всей душой,
Чтоб плут исчез и повод был схватиться.
Едва мздоимец скрылся с головой,
Он на собрата тотчас двинул ногти,
И дьяволы сцепились над смолой.
Но тот не хуже, чтоб нацелить когти,
Был ястреб-перемыт, и их тела
Вмиг очутились в раскаленном дегте.
Их сразу жгучесть пекла разняла;
Но вызволиться было невозможно,
Настолько прочно влипли их крыла.
Тут Борода, как все, томясь тревожно,
Велел, чтоб четверо, забрав багры,
Перелетели ров; все безотложно
И там и тут спустились на бугры;
Они к увязшим протянули крючья,
А те уже спеклись внутри коры;
И мы ушли в разгар их злополучья.
ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ Безмолвны, одиноки и без свиты, Мы шли путем, неведомым для нас, Друг другу вслед, как братья минориты. Недавний бой припомянув не раз, Я баснь Эзопа вспомнил поневоле, Про мышь и про лягушку старый сказ. «Сейчас» и «тотчас» сходствуют не боле, Чем тот и этот случай, если им Уделено вниманье в равной доле. И так как мысль дает исток другим, Одно другим сменилось размышленье, И страх мой стал вдвойне неодолим. Я думал так: «Им это посрамленье Пришло от нас; столь тяжкий претерпев Ущерб и срам, они затеют мщенье. Когда на злобный нрав накручен гнев, Они на нас жесточе ополчатся, Чем пес на зайца разверзает зев». Я чуял — волосы на мне дыбятся От жути, и, остановясь, затих; Потом сказал: «Они за нами мчатся; Учитель, спрячь скорее нас двоих; Мне страшно загребал; они предстали Во мне так ясно, что я слышу их». «Будь я стеклом свинцовым, я б едва ли, — Сказал он, — отразил твой внешний лик Быстрей, чем восприял твои печали. Твой помысел в мои помысел проник, Ему лицом и поступью подобный, И я их свел к решенью в тот же миг. И если справа склон горы удобный, Чтоб нам спуститься в следующий ров, То нас они настигнуть не способны». Он не успел домолвить этих слов, Как я увидел: быстры и крылаты, Они уж близко и спешат на лов.
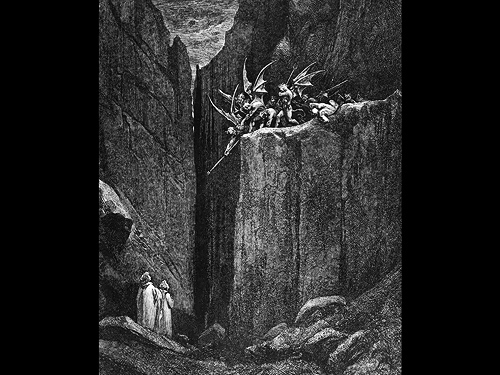 В единый миг меня схватил вожатый,
Как мать, на шум проснувшись вдруг и дом
Увидя буйным пламенем объятый,
Хватает сына и бежит бегом,
Рубашки не накинув, помышляя
Не о себе, а лишь о нем одном, —
И тотчас вниз с обрывистого края
Скользнул спиной на каменистый скат,
Которым щель окаймлена шестая.
Так быстро воды стоком не спешат
Вращать у дольной мельницы колеса,
Когда струя уже вблизи лопат,
Как мой учитель, с высоты утеса,
Как сына, не как друга, на руках
Меня держа, стремился вдоль откоса.
Чуть он коснулся дна, те впопыхах
Уже достигли выступа стремнины
Как раз над нами; но прошел и страх, —
Затем что стражу пятой котловины
Им промысел высокий отдает,
Но прочь ступить не властен ни единый.
Внизу скалы повапленный народ
Кружил неспешным шагом, без надежды,
В слезах, устало двигаясь вперед.
Все — в мантиях, и затеняет вежды
Глубокий куколь, низок и давящ;
Так шьют клунийским инокам одежды.
Снаружи позолочен и слепящ,
Внутри так грузен их убор свинцовый,
Что был соломой Федериков плащ.
О вековечно тяжкие покровы!
Мы вновь свернули влево, как они,
В их плач печальный вслушаться готовы.
Но те, устав под бременем брони,
Брели так тихо, что с другим соседом
Ровнял нас каждый новый сдвиг ступни.
И я вождю: «Найди, быть может ведом
Делами или именем иной;
Взгляни, шагая, на идущих следом«.
В единый миг меня схватил вожатый,
Как мать, на шум проснувшись вдруг и дом
Увидя буйным пламенем объятый,
Хватает сына и бежит бегом,
Рубашки не накинув, помышляя
Не о себе, а лишь о нем одном, —
И тотчас вниз с обрывистого края
Скользнул спиной на каменистый скат,
Которым щель окаймлена шестая.
Так быстро воды стоком не спешат
Вращать у дольной мельницы колеса,
Когда струя уже вблизи лопат,
Как мой учитель, с высоты утеса,
Как сына, не как друга, на руках
Меня держа, стремился вдоль откоса.
Чуть он коснулся дна, те впопыхах
Уже достигли выступа стремнины
Как раз над нами; но прошел и страх, —
Затем что стражу пятой котловины
Им промысел высокий отдает,
Но прочь ступить не властен ни единый.
Внизу скалы повапленный народ
Кружил неспешным шагом, без надежды,
В слезах, устало двигаясь вперед.
Все — в мантиях, и затеняет вежды
Глубокий куколь, низок и давящ;
Так шьют клунийским инокам одежды.
Снаружи позолочен и слепящ,
Внутри так грузен их убор свинцовый,
Что был соломой Федериков плащ.
О вековечно тяжкие покровы!
Мы вновь свернули влево, как они,
В их плач печальный вслушаться готовы.
Но те, устав под бременем брони,
Брели так тихо, что с другим соседом
Ровнял нас каждый новый сдвиг ступни.
И я вождю: «Найди, быть может ведом
Делами или именем иной;
Взгляни, шагая, на идущих следом«.
 Один, признав тосканский говор мой,
За нами крикнул: «Придержите ноги,
Вы, что спешите так под этой тьмой!
Ты можешь у меня спросить подмоги».
Вождь, обернувшись, молвил: «Здесь побудь;
Потом с ним в ногу двинься вдоль дороги».
По лицам двух я видел, что их грудь
Исполнена стремления живого;
Но им мешали груз и тесный путь.
Приблизясь и не говоря ни слова,
Они смотрели долго, взгляд скосив;
Потом спросили так один другого:
«Он, судя по работе горла, жив;
А если оба мертвы, как же это
Они блуждают, столу совлачив?»
И мне: «Тосканец, здесь, среди совета
Унылых лицемеров, на вопрос,
Кто ты такой, не презирай ответа».
Я молвил: «Я родился и возрос
В великом городе на ясном Арно,
И это тело я и прежде нес.
А кто же вы, чью муку столь коварно
Изобличает этот слезный град?
И чем вы так казнимы лучезарно?»
Один ответил: «Желтый наш наряд
Навис на нас таким свинцовым сводом,
Что под напором гирь весы скрипят.
Мы гауденты, из Болоньи родом,
Я — Каталано, Лодеринго — он;
Мы были призваны твоим народом,
Как одиноких брали испокон,
Чтоб мир хранить; как он хранился нами,
Вокруг Гардинго видно с тех времен».
Я начал: «Братья, вашими делами…» —
Но смолк; мой глаз внезапно увидал
Распятого в пыли тремя колами.
Он, увидав меня, затрепетал,
Сквозь бороду бросая вздох стесненный.
Брат Каталан на это мне сказал:
«Тот, на кого ты смотришь, здесь пронзенный,
Когда-то речи фарисеям вел,
Что может всех спасти один казненный.
Он брошен поперек тропы и гол,
Как видишь сам, и чувствует все время,
Насколько каждый, кто идет, тяжел.
Один, признав тосканский говор мой,
За нами крикнул: «Придержите ноги,
Вы, что спешите так под этой тьмой!
Ты можешь у меня спросить подмоги».
Вождь, обернувшись, молвил: «Здесь побудь;
Потом с ним в ногу двинься вдоль дороги».
По лицам двух я видел, что их грудь
Исполнена стремления живого;
Но им мешали груз и тесный путь.
Приблизясь и не говоря ни слова,
Они смотрели долго, взгляд скосив;
Потом спросили так один другого:
«Он, судя по работе горла, жив;
А если оба мертвы, как же это
Они блуждают, столу совлачив?»
И мне: «Тосканец, здесь, среди совета
Унылых лицемеров, на вопрос,
Кто ты такой, не презирай ответа».
Я молвил: «Я родился и возрос
В великом городе на ясном Арно,
И это тело я и прежде нес.
А кто же вы, чью муку столь коварно
Изобличает этот слезный град?
И чем вы так казнимы лучезарно?»
Один ответил: «Желтый наш наряд
Навис на нас таким свинцовым сводом,
Что под напором гирь весы скрипят.
Мы гауденты, из Болоньи родом,
Я — Каталано, Лодеринго — он;
Мы были призваны твоим народом,
Как одиноких брали испокон,
Чтоб мир хранить; как он хранился нами,
Вокруг Гардинго видно с тех времен».
Я начал: «Братья, вашими делами…» —
Но смолк; мой глаз внезапно увидал
Распятого в пыли тремя колами.
Он, увидав меня, затрепетал,
Сквозь бороду бросая вздох стесненный.
Брат Каталан на это мне сказал:
«Тот, на кого ты смотришь, здесь пронзенный,
Когда-то речи фарисеям вел,
Что может всех спасти один казненный.
Он брошен поперек тропы и гол,
Как видишь сам, и чувствует все время,
Насколько каждый, кто идет, тяжел.
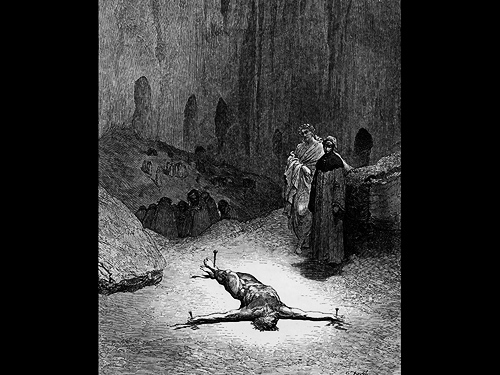 И тесть его здесь терпит то же бремя,
И весь собор, оставивший в удел
Еврейскому народу злое семя».
И видел я, как чудно поглядел
Вергилий на того, кто так ничтожно,
В изгнанье вечном, распятый, коснел.
Потом он молвил брату: «Если можно,
То не укажете ли нам пути
Отсюда вправо, чтобы бестревожно
Из здешних мест мы с ним могли уйти
И черных ангелов не понуждая
Нас из ложбины этой унести».
И брат: «Тут есть вблизи гряда большая;
Она идет от круговой стены,
Все яростные рвы пересекая,
Но рухнула над этим; вы должны
Подняться по обвалу; склон обрыва
И дно лощины сплошь завалены».
Вождь голову понурил молчаливо.
«Тот, кто крюком, — сказал он наконец, —
Хватает грешных, говорил нам лживо».
«Я не один в Болонье образец
Слыхал того, как бес ко злу привержен, —
Промолвил брат. — Он всякой лжи отец».
Затем мой вождь пошел, слегка рассержен,
Широкой поступью и хмуря лоб;
И я от тех, кто бременем удержан,
Направился по следу милых стоп.
И тесть его здесь терпит то же бремя,
И весь собор, оставивший в удел
Еврейскому народу злое семя».
И видел я, как чудно поглядел
Вергилий на того, кто так ничтожно,
В изгнанье вечном, распятый, коснел.
Потом он молвил брату: «Если можно,
То не укажете ли нам пути
Отсюда вправо, чтобы бестревожно
Из здешних мест мы с ним могли уйти
И черных ангелов не понуждая
Нас из ложбины этой унести».
И брат: «Тут есть вблизи гряда большая;
Она идет от круговой стены,
Все яростные рвы пересекая,
Но рухнула над этим; вы должны
Подняться по обвалу; склон обрыва
И дно лощины сплошь завалены».
Вождь голову понурил молчаливо.
«Тот, кто крюком, — сказал он наконец, —
Хватает грешных, говорил нам лживо».
«Я не один в Болонье образец
Слыхал того, как бес ко злу привержен, —
Промолвил брат. — Он всякой лжи отец».
Затем мой вождь пошел, слегка рассержен,
Широкой поступью и хмуря лоб;
И я от тех, кто бременем удержан,
Направился по следу милых стоп.
ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Покуда год не вышел из малюток И солнцу кудри греет Водолей, А ночь все ближе к половине суток И чертит иней посреди полей Подобье своего седого брата, Хоть каждый раз его перо хилей, — Крестьянин, чья кормушка небогата, Встает и видит — побелел весь луг, И бьет себя пониже перехвата; Уходит в дом, ворчит, снует вокруг, Не зная, бедный, что тут делать надо; А выйдет вновь — и ободрится вдруг, Увидев мир сменившим цвет наряда В короткий миг; берет свой посошок И гонит вон пастись овечье стадо. Так вождь причиной был моих тревог, Когда казался смутен и несветел, И так же сразу боль мою отвлек: Как только он упавший мост приметил, Он бросил мне все тот же ясный взгляд, Что у подножья горного я встретил. Он оглядел загроможденный скат, Подумал и, кладя конец заботам, Раскрыв объятья, взял меня в обхват. И словно тот, кто трудится с расчетом, Как бы все время глядя пред собой, Так он, подняв меня единым взметом На камень, намечал уже другой И говорил: «Теперь вот тот потрогай, Таков ли он, чтоб твердо стать ногой». В плаще бы не пройти такой дорогой; Едва и мы, с утеса на утес, Ползли наверх, он — легкий, я — с подмогой. И если бы не то, что наш откос Был ниже прежнего, — как мой вожатый, Не знаю, я бы вряд ли перенес. Но так как область Злых Щелей покатый К срединному жерлу дает наклон, То стены, меж которых рвы зажаты, По высоте не равны с двух сторон. Мы наконец взошли на верх обвала, Где самый крайний камень прислонен. Мне так дыханья в легких не хватало, Что дальше я не в силах был идти; Едва взойдя, я тут же сел устало. «Теперь ты леность должен отмести, — Сказал учитель. — Лежа под периной Да сидя в мягком, славы не найти. Кто без нее готов быть взят кончиной, Такой же в мире оставляет след, Как в ветре дым и пена над пучиной. Встань! Победи томленье, нет побед, Запретных духу, если он не вянет, Как эта плоть, которой он одет! Еще длиннее лестница предстанет; Уйти от них — не в этом твой удел; И если слышишь, пусть душа воспрянет». Тогда я встал; я показать хотел, Что я дышу свободней, чем на деле, И молвил так: «Идем, я бодр и смел!» Мы гребнем взяли путь; еще тяжеле, Обрывистый, крутой, в обломках скал, Он был, чем тот, каким мы шли доселе. Чтоб скрыть усталость, я не умолкал; Вдруг голос из расселины раздался, Который даже не как речь звучал. Слов я понять не мог, хотя взобрался На горб моста, изогнутого там; Но говоривший как бы удалялся. Я наклонился, но живым глазам Достигнуть дна мешала тьма густая; И я: «Учитель, сделай так, чтоб нам Сойти на вал, и станем возле края; Я слушаю, но смысла не пойму, И ничего не вижу, взор склоняя». И он: «Мой отклик слову твоему — Свершить; когда желанье справедливо, То надо молча следовать ему». Мы с моста вниз сошли неторопливо, Где он с восьмым смыкается кольцом, И тут весь ров открылся мне с обрыва. И я внутри увидел страшный ком Змей, и так много разных было видно, Что стынет кровь, чуть вспомяну о нем. Ливийской степи было бы завидно: Пусть кенхр, и амфисбена, и фарей Плодятся в ней, и якул, и ехидна, — Там нет ни стольких гадов, ни лютей, Хотя бы все владенья эфиопа И берег Чермных вод прибавить к ней. Средь этого чудовищного скопа Нагой народ, мечась, ни уголка Не ждал, чтоб скрыться, ни гелиотропа. Скрутив им руки за спиной, бока Хвостом и головой пронзали змеи, Чтоб спереди связать концы клубка.
 Вдруг к одному, — он был нам всех виднее, —
Метнулся змей и впился, как копье,
В то место, где сращенье плеч и шеи.
Быстрей, чем I начертишь или О,
Он вспыхнул, и сгорел, и в пепел свился,
И тело, рухнув, утерял свое.
Когда он так упал и развалился,
Прах вновь сомкнулся воедино сам
И в прежнее обличье возвратился.
Так ведомо великим мудрецам,
Что гибнет Феникс, чтоб восстать, как новый,
Когда подходит к пятистам годам.
Не травы — корм его, не сок плодовый,
Но ладанные слезы и амом,
А нард и мирра — смертные покровы.
Как тот, кто падает, к земле влеком,
Он сам не знает — демонскою силой
Иль запруженьем, властным над умом,
И, встав, кругом обводит взгляд застылый,
Еще в себя от муки не придя,
И вздох, взирая, издает унылый, —
Таков был грешник, вставший погодя.
О божья мощь, сколь праведный ты мститель,
Когда вот так сражаешь, не щадя!
Кто он такой, его спросил учитель.
И тот: «Я из Тосканы в этот лог
Недавно сверзился. Я был любитель
Жить по-скотски, а по-людски не мог,
Да мулом был и впрямь; я — Ванни Фуччи,
Зверь, из Пистойи, лучшей из берлог».
И я вождю: «Пусть подождет у кручи;
Спроси, за что он спихнут в этот ров;
Ведь он же был кровавый и кипучий».
Тот, услыхав и отвечать готов,
Свое лицо и дух ко мне направил
И от дурного срама стал багров.
«Гораздо мне больнее, — он добавил, —
Что ты меня в такой беде застал,
Чем было в миг, когда я жизнь оставил.
Я исполняю то, что ты желал:
Я так глубоко брошен в яму эту
За то, что утварь в ризнице украл.
Тогда другой был привлечен к ответу.
Но чтобы ты свиданию со мной
Не радовался, если выйдешь к свету,
То слушай весть и шире слух открой:
Сперва в Пистойе сила Черных сгинет,
Потом Фьоренца обновит свой строй.
Марс от долины Магры пар надвинет,
Повитый мглою облачных пелен,
И на поля Пиценские низринет,
И будет бой жесток и разъярен;
Но он туман размечет своевольно,
И каждый Белый будет сокрушен.
Я так сказал, чтоб ты терзался больно!»
Вдруг к одному, — он был нам всех виднее, —
Метнулся змей и впился, как копье,
В то место, где сращенье плеч и шеи.
Быстрей, чем I начертишь или О,
Он вспыхнул, и сгорел, и в пепел свился,
И тело, рухнув, утерял свое.
Когда он так упал и развалился,
Прах вновь сомкнулся воедино сам
И в прежнее обличье возвратился.
Так ведомо великим мудрецам,
Что гибнет Феникс, чтоб восстать, как новый,
Когда подходит к пятистам годам.
Не травы — корм его, не сок плодовый,
Но ладанные слезы и амом,
А нард и мирра — смертные покровы.
Как тот, кто падает, к земле влеком,
Он сам не знает — демонскою силой
Иль запруженьем, властным над умом,
И, встав, кругом обводит взгляд застылый,
Еще в себя от муки не придя,
И вздох, взирая, издает унылый, —
Таков был грешник, вставший погодя.
О божья мощь, сколь праведный ты мститель,
Когда вот так сражаешь, не щадя!
Кто он такой, его спросил учитель.
И тот: «Я из Тосканы в этот лог
Недавно сверзился. Я был любитель
Жить по-скотски, а по-людски не мог,
Да мулом был и впрямь; я — Ванни Фуччи,
Зверь, из Пистойи, лучшей из берлог».
И я вождю: «Пусть подождет у кручи;
Спроси, за что он спихнут в этот ров;
Ведь он же был кровавый и кипучий».
Тот, услыхав и отвечать готов,
Свое лицо и дух ко мне направил
И от дурного срама стал багров.
«Гораздо мне больнее, — он добавил, —
Что ты меня в такой беде застал,
Чем было в миг, когда я жизнь оставил.
Я исполняю то, что ты желал:
Я так глубоко брошен в яму эту
За то, что утварь в ризнице украл.
Тогда другой был привлечен к ответу.
Но чтобы ты свиданию со мной
Не радовался, если выйдешь к свету,
То слушай весть и шире слух открой:
Сперва в Пистойе сила Черных сгинет,
Потом Фьоренца обновит свой строй.
Марс от долины Магры пар надвинет,
Повитый мглою облачных пелен,
И на поля Пиценские низринет,
И будет бой жесток и разъярен;
Но он туман размечет своевольно,
И каждый Белый будет сокрушен.
Я так сказал, чтоб ты терзался больно!»
ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ По окончаньи речи, вскинув руки И выпятив два кукиша, злодей Воскликнул так: «На, боже, обе штуки!» С тех самых пор и стал я другом змей: Одна из них ему гортань обвила, Как будто говоря: «Молчи, не смей!», Другая — руки, и кругом скрутила, Так туго затянув клубок узла, Что всякая из них исчезла сила. Сгори, Пистойя, истребись дотла! Такой, как ты, существовать не надо! Ты свой же корень в скверне превзошла! Мне ни в одном из темных кругов Ада Строптивей богу дух не представал, Ни тот, кто в Фивах пал с вершины града. Он, не сказав ни слова, побежал; И видел я, как следом осерчало Скакал кентавр, крича: «Где, где бахвал?» Так много змей в Маремме не бывало, Сколькими круп его был оплетен Дотуда, где наш облик брал начало. А над затылком нависал дракон, Ему налегший на плечи, крылатый, Которым каждый встречный опален. «Ты видишь Кака, — мне сказал вожатый. — Немало крови от него лилось, Где Авентин вознес крутые скаты. Он с братьями теперь шагает врозь За то, что обобрал не без оглядки Большое стадо, что вблизи паслось. Но не дал Геркулес ему повадки И палицей отстукал до ста раз, Хоть тот был мертв на первом же десятке». Пока о проскакавшем шел рассказ, Три духа собрались внизу; едва ли Заметил бы их кто-нибудь из нас, Вождь или я, но снизу закричали: «Вы кто?» Тогда наш разговор затих, И мы пришедших молча озирали. Я их не знал; но тут один из них Спросил, и я по этому вопросу Догадываться мог об остальных: «А что же Чанфа не пришел к утесу?» И я, чтоб вождь прислушался к нему, От подбородка палец поднял к носу. Не диво, если слову моему, Читатель, ты поверишь неохотно: Мне, видевшему, чудно самому. Едва я оглянул их мимолетно, Взметнулся шестиногий змей, внаскок Облапил одного и стиснул плотно. Зажав ему бока меж средних ног, Передними он в плечи уцепился И вгрызся духу в каждую из щек; А задними за ляжки ухватился И между них ему просунул хвост, Который кверху вдоль спины извился. Плющ, дереву опутав мощный рост, Не так его глушит, как зверь висячий Чужое тело обмотал взахлест.
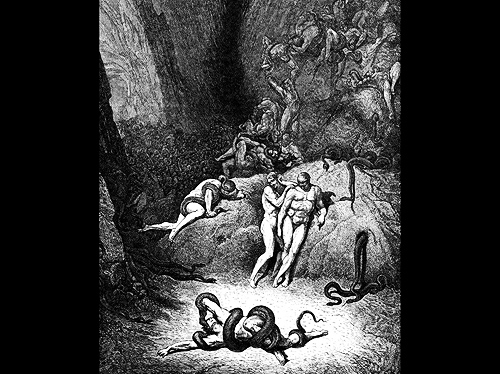 И оба слиплись, точно воск горячий,
И смешиваться начал цвет их тел,
Окрашенных теперь уже иначе,
Как если бы бумажный лист горел
И бурый цвет распространялся в зное,
Еще не черен и уже не бел.
«Увы, Аньель, да что с тобой такое? —
Кричали, глядя, остальные два. —
Смотри, уже ты ни один, ни двое».
Меж тем единой стала голова,
И смесь двух лиц явилась перед нами,
Где прежние мерещились едва.
Четыре отрасли — двумя руками,
А бедра, ноги, и живот, и грудь
Невиданными сделались частями.
Все бывшее в одну смесилось муть;
И жуткий образ медленной походкой,
Ничто и двое, продолжал свой путь.
Как ящерица под широкой плеткой
Палящих дней, меняя тын, мелькнет
Через дорогу молнией короткой,
Так, двум другим кидаясь на живот,
Мелькнул змееныш лютый, желто-черный,
Как шарик перца; и туда, где плод
Еще в утробе влагой жизнетворной
Питается, ужалил одного;
Потом скользнул к его ногам, проворный.
Пронзенный не промолвил ничего
И лишь зевнул, как бы от сна совея
Иль словно лихорадило его.
Змей смотрит на него, а он — на змея;
Тот — язвой, этот — ртом пускают дым,
И дым смыкает гада и злодея.
Лукан да смолкнет там, где назван им
Злосчастливый Сабелл или Насидий,
И да внимает замыслам моим.
Пусть Кадма с Аретузой пел Овидий
И этого — змеей, а ту — ручьем
Измыслил обратить, — я не в обиде:
Два естества, вот так, к лицу лицом,
Друг в друга он не претворял телесно,
Заставив их меняться веществом.
У этих превращенье шло совместно:
Змееныш хвост, как вилку, расколол,
А раненый стопы содвинул тесно.
Он голени и бедра плотно свел,
И, самый след сращенья уничтожа,
Они сомкнулись в нераздельный ствол.
У змея вилка делалась похожа
На гибнущее там, и здесь мягка,
А там корява становилась кожа.
Суставы рук вошли до кулака
Под мышки, между тем как удлинялись
Коротенькие лапки у зверька.
Две задние конечности смотались
В тот член, который человек таит,
А у бедняги два образовались.
Покамест дымом каждый был повит
И новым цветом начал облекаться,
Тут — облысев, там — волосом покрыт, —
Один успел упасть, другой — подняться,
Но луч бесчестных глаз был так же прям,
И в нем их морды начали меняться.
Стоявший растянул лицо к вискам,
И то, что лишнего туда наплыло,
Пошло от щек на вещество ушам.
А то, что не сползло назад, застыло
Комком, откуда ноздри отросли
И вздулись губы, сколько надо было.
Лежавший рыло вытянул в пыли,
А уши, убывая еле зримо,
Как рожки у улитки, внутрь ушли.
Язык, когда-то росший неделимо
И бойкий, треснул надвое, а тот,
Двойной, стянулся, — и не стало дыма.
Душа в обличье гадины ползет
И с шипом удаляется в лощину,
А тот вдогонку, говоря, плюет.
Он, повернув к ней новенькую спину,
Сказал другому: «Пусть теперь ничком,
Как я, Буозо оползет долину».
Так, видел я, менялась естеством
Седьмая свалка; и притом так странно,
Что я, быть может, погрешил пером.
Хотя уж видеть начали туманно
Мои глаза и самый дух блуждал,
Те не могли укрыться столь нежданно,
Чтоб я хромого Пуччо не узнал;
Из всех троих он был один нетронут
С тех пор, как подошел к подножью скал;
Другой был тот, по ком в Гавилле стонут.
И оба слиплись, точно воск горячий,
И смешиваться начал цвет их тел,
Окрашенных теперь уже иначе,
Как если бы бумажный лист горел
И бурый цвет распространялся в зное,
Еще не черен и уже не бел.
«Увы, Аньель, да что с тобой такое? —
Кричали, глядя, остальные два. —
Смотри, уже ты ни один, ни двое».
Меж тем единой стала голова,
И смесь двух лиц явилась перед нами,
Где прежние мерещились едва.
Четыре отрасли — двумя руками,
А бедра, ноги, и живот, и грудь
Невиданными сделались частями.
Все бывшее в одну смесилось муть;
И жуткий образ медленной походкой,
Ничто и двое, продолжал свой путь.
Как ящерица под широкой плеткой
Палящих дней, меняя тын, мелькнет
Через дорогу молнией короткой,
Так, двум другим кидаясь на живот,
Мелькнул змееныш лютый, желто-черный,
Как шарик перца; и туда, где плод
Еще в утробе влагой жизнетворной
Питается, ужалил одного;
Потом скользнул к его ногам, проворный.
Пронзенный не промолвил ничего
И лишь зевнул, как бы от сна совея
Иль словно лихорадило его.
Змей смотрит на него, а он — на змея;
Тот — язвой, этот — ртом пускают дым,
И дым смыкает гада и злодея.
Лукан да смолкнет там, где назван им
Злосчастливый Сабелл или Насидий,
И да внимает замыслам моим.
Пусть Кадма с Аретузой пел Овидий
И этого — змеей, а ту — ручьем
Измыслил обратить, — я не в обиде:
Два естества, вот так, к лицу лицом,
Друг в друга он не претворял телесно,
Заставив их меняться веществом.
У этих превращенье шло совместно:
Змееныш хвост, как вилку, расколол,
А раненый стопы содвинул тесно.
Он голени и бедра плотно свел,
И, самый след сращенья уничтожа,
Они сомкнулись в нераздельный ствол.
У змея вилка делалась похожа
На гибнущее там, и здесь мягка,
А там корява становилась кожа.
Суставы рук вошли до кулака
Под мышки, между тем как удлинялись
Коротенькие лапки у зверька.
Две задние конечности смотались
В тот член, который человек таит,
А у бедняги два образовались.
Покамест дымом каждый был повит
И новым цветом начал облекаться,
Тут — облысев, там — волосом покрыт, —
Один успел упасть, другой — подняться,
Но луч бесчестных глаз был так же прям,
И в нем их морды начали меняться.
Стоявший растянул лицо к вискам,
И то, что лишнего туда наплыло,
Пошло от щек на вещество ушам.
А то, что не сползло назад, застыло
Комком, откуда ноздри отросли
И вздулись губы, сколько надо было.
Лежавший рыло вытянул в пыли,
А уши, убывая еле зримо,
Как рожки у улитки, внутрь ушли.
Язык, когда-то росший неделимо
И бойкий, треснул надвое, а тот,
Двойной, стянулся, — и не стало дыма.
Душа в обличье гадины ползет
И с шипом удаляется в лощину,
А тот вдогонку, говоря, плюет.
Он, повернув к ней новенькую спину,
Сказал другому: «Пусть теперь ничком,
Как я, Буозо оползет долину».
Так, видел я, менялась естеством
Седьмая свалка; и притом так странно,
Что я, быть может, погрешил пером.
Хотя уж видеть начали туманно
Мои глаза и самый дух блуждал,
Те не могли укрыться столь нежданно,
Чтоб я хромого Пуччо не узнал;
Из всех троих он был один нетронут
С тех пор, как подошел к подножью скал;
Другой был тот, по ком в Гавилле стонут.
ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ Гордись, Фьоренца, долей величавой! Ты над землей и морем бьешь крылом, И самый Ад твоей наполнен славой! Я пять таких в собранье воровском Нашел сограждан, что могу стыдиться, Да и тебе немного чести в том. Но если нам под утро правда снится, Ты ощутишь в один из близких дней, К чему и Прато, как и все, стремится; Поэтому — тем лучше, чем скорей; Раз быть должно, так пусть бы миновало! С теченьем лет мне будет тяжелей. По выступам, которые сначала Вели нас вниз, поднялся спутник мой, И я, влекомый им, взошел устало; И дальше, одинокою тропой Меж трещин и камней хребта крутого, Нога не шла, не подсобясь рукой.
 Тогда страдал я и страдаю снова,
Когда припомню то, что я видал;
И взнуздываю ум сильней былого,
Чтоб он без добрых правил не блуждал,
И то, что мне дала звезда благая
Иль кто-то лучший, сам я не попрал.
Как селянин, на холме отдыхая, —
Когда сокроет ненадолго взгляд
Тот, кем страна озарена земная,
И комары, сменяя мух, кружат, —
Долину видит полной светляками
Там, где он жнет, где режет виноград,
Так, видел я, вся искрилась огнями
Восьмая глубь, как только с двух сторон
Расщелина открылась перед нами.
И как, конями поднят в небосклон,
На колеснице Илия вздымался,
А тот, кто был медведями отмщен,
Ему вослед глазами устремлялся
И только пламень различал едва,
Который вверх, как облачко, взвивался, —
Так движутся огни в гортани рва,
И в каждом замкнут грешник утаенный,
Хоть взор не замечает воровства.
С вершины моста я смотрел, склоненный,
И, не держись я за одну из плит,
Я бы упал, никем не понужденный;
И вождь, приметив мой усердный вид,
Сказал мне так: «Здесь каждый дух затерян
Внутри огня, которым он горит».
«Теперь, учитель, я вполне уверен, —
Ответил я. — Уж я и сам постиг,
И даже так спросить я был намерен:
Кто в том огне, что там вдали возник,
Двойной вверху, как бы с костра подъятый,
Где с братом был положен Полиник?»
«В нем мучатся, — ответил мой вожатый, —
Улисс и Диомед, и так вдвоем,
Как шли на гнев, идут путем расплаты;
Казнятся этим стонущим огнем
И ввод коня, разверзший стены града,
Откуда римлян вышел славный дом,
И то, что Дейдамия в сенях Ада
Зовет Ахилла, мертвая, стеня,
И за Палладий в нем дана награда».
«Когда есть речь у этого огня,
Учитель, — я сказал, — тебя молю я,
Сто раз тебя молю, утешь меня,
Дождись, покуда, меж других кочуя,
Рогатый пламень к нам не подойдет:
Смотри, как я склонен к нему, тоскуя».
«Такая просьба, — мне он в свой черед, —
Всегда к свершенью сердце расположит;
Но твой язык на время пусть замрет.
Спрошу их я; то, что тебя тревожит,
И сам я понял; а на твой вопрос
Они, как греки, промолчат, быть может».
Когда огонь пришел под наш утес
И место «и мгновенье подобало,
Учитель мой, я слышал, произнес:
«О вы, чей пламень раздвояет жало!
Когда почтил вас я в мой краткий час,
Когда почтил вас много или мало,
Слагая в мире мой высокий сказ,
Постойте; вы поведать мне повинны,
Где, заблудясь, погиб один из вас».
С протяжным ропотом огонь старинный
Качнул свой больший рог; так иногда
Томится на ветру костер пустынный,
Туда клоня вершину и сюда,
Как если б это был язык вещавший,
Он издал голос и сказал: «Когда
Расстался я с Цирцеей, год скрывавшей
Меня вблизи Гаэты, где потом
Пристал Эней, так этот край назвавший, —
Ни нежность к сыну, ни перед отцом
Священный страх, ни долг любви спокойный
Близ Пенелопы с радостным челом
Не возмогли смирить мой голод знойный
Изведать мира дальний кругозор
И все, чем дурны люди и достойны.
И я в морской отважился простор,
На малом судне выйдя одиноко
С моей дружиной, верной с давних пор.
Я видел оба берега, Моррокко,
Испанию, край сардов, рубежи
Всех островов, раскиданных широко.
Уже мы были древние мужи,
Войдя в пролив, в том дальнем месте света,
Где Геркулес воздвиг свои межи,
Чтобы пловец не преступал запрета;
Севилья справа отошла назад,
Осталась слева, перед этим, Сетта.
«О братья, — так сказал я, — на закат
Пришедшие дорогой многотрудной!
Тот малый срок, пока еще не спят
Земные чувства, их остаток скудный
Отдайте постиженью новизны,
Чтоб, солнцу вслед, увидеть мир безлюдный!
Подумайте о том, чьи вы сыны:
Вы созданы не для животной доли,
Но к доблести и к знанью рождены».
Товарищей так живо укололи
Мои слова и ринули вперед,
Что я и сам бы не сдержал их воли.
Кормой к рассвету, свой шальной полет
На крыльях весел судно устремило,
Все время влево уклоняя ход.
Уже в ночи я видел все светила
Другого остья, и морская грудь
Склонившееся наше заслонила.
Пять раз успел внизу луны блеснуть
И столько ж раз погаснуть свет заемный,
С тех пор как мы пустились в дерзкий путь,
Когда гора, далекой грудой темной,
Открылась нам; от века своего
Я не видал еще такой огромной.
Сменилось плачем наше торжество:
От новых стран поднялся вихрь, с налета
Ударил в судно, повернул его
Три раза в быстрине водоворота;
Корма взметнулась на четвертый раз,
Нос канул книзу, как назначил Кто-то,
И море, хлынув, поглотило нас».
Тогда страдал я и страдаю снова,
Когда припомню то, что я видал;
И взнуздываю ум сильней былого,
Чтоб он без добрых правил не блуждал,
И то, что мне дала звезда благая
Иль кто-то лучший, сам я не попрал.
Как селянин, на холме отдыхая, —
Когда сокроет ненадолго взгляд
Тот, кем страна озарена земная,
И комары, сменяя мух, кружат, —
Долину видит полной светляками
Там, где он жнет, где режет виноград,
Так, видел я, вся искрилась огнями
Восьмая глубь, как только с двух сторон
Расщелина открылась перед нами.
И как, конями поднят в небосклон,
На колеснице Илия вздымался,
А тот, кто был медведями отмщен,
Ему вослед глазами устремлялся
И только пламень различал едва,
Который вверх, как облачко, взвивался, —
Так движутся огни в гортани рва,
И в каждом замкнут грешник утаенный,
Хоть взор не замечает воровства.
С вершины моста я смотрел, склоненный,
И, не держись я за одну из плит,
Я бы упал, никем не понужденный;
И вождь, приметив мой усердный вид,
Сказал мне так: «Здесь каждый дух затерян
Внутри огня, которым он горит».
«Теперь, учитель, я вполне уверен, —
Ответил я. — Уж я и сам постиг,
И даже так спросить я был намерен:
Кто в том огне, что там вдали возник,
Двойной вверху, как бы с костра подъятый,
Где с братом был положен Полиник?»
«В нем мучатся, — ответил мой вожатый, —
Улисс и Диомед, и так вдвоем,
Как шли на гнев, идут путем расплаты;
Казнятся этим стонущим огнем
И ввод коня, разверзший стены града,
Откуда римлян вышел славный дом,
И то, что Дейдамия в сенях Ада
Зовет Ахилла, мертвая, стеня,
И за Палладий в нем дана награда».
«Когда есть речь у этого огня,
Учитель, — я сказал, — тебя молю я,
Сто раз тебя молю, утешь меня,
Дождись, покуда, меж других кочуя,
Рогатый пламень к нам не подойдет:
Смотри, как я склонен к нему, тоскуя».
«Такая просьба, — мне он в свой черед, —
Всегда к свершенью сердце расположит;
Но твой язык на время пусть замрет.
Спрошу их я; то, что тебя тревожит,
И сам я понял; а на твой вопрос
Они, как греки, промолчат, быть может».
Когда огонь пришел под наш утес
И место «и мгновенье подобало,
Учитель мой, я слышал, произнес:
«О вы, чей пламень раздвояет жало!
Когда почтил вас я в мой краткий час,
Когда почтил вас много или мало,
Слагая в мире мой высокий сказ,
Постойте; вы поведать мне повинны,
Где, заблудясь, погиб один из вас».
С протяжным ропотом огонь старинный
Качнул свой больший рог; так иногда
Томится на ветру костер пустынный,
Туда клоня вершину и сюда,
Как если б это был язык вещавший,
Он издал голос и сказал: «Когда
Расстался я с Цирцеей, год скрывавшей
Меня вблизи Гаэты, где потом
Пристал Эней, так этот край назвавший, —
Ни нежность к сыну, ни перед отцом
Священный страх, ни долг любви спокойный
Близ Пенелопы с радостным челом
Не возмогли смирить мой голод знойный
Изведать мира дальний кругозор
И все, чем дурны люди и достойны.
И я в морской отважился простор,
На малом судне выйдя одиноко
С моей дружиной, верной с давних пор.
Я видел оба берега, Моррокко,
Испанию, край сардов, рубежи
Всех островов, раскиданных широко.
Уже мы были древние мужи,
Войдя в пролив, в том дальнем месте света,
Где Геркулес воздвиг свои межи,
Чтобы пловец не преступал запрета;
Севилья справа отошла назад,
Осталась слева, перед этим, Сетта.
«О братья, — так сказал я, — на закат
Пришедшие дорогой многотрудной!
Тот малый срок, пока еще не спят
Земные чувства, их остаток скудный
Отдайте постиженью новизны,
Чтоб, солнцу вслед, увидеть мир безлюдный!
Подумайте о том, чьи вы сыны:
Вы созданы не для животной доли,
Но к доблести и к знанью рождены».
Товарищей так живо укололи
Мои слова и ринули вперед,
Что я и сам бы не сдержал их воли.
Кормой к рассвету, свой шальной полет
На крыльях весел судно устремило,
Все время влево уклоняя ход.
Уже в ночи я видел все светила
Другого остья, и морская грудь
Склонившееся наше заслонила.
Пять раз успел внизу луны блеснуть
И столько ж раз погаснуть свет заемный,
С тех пор как мы пустились в дерзкий путь,
Когда гора, далекой грудой темной,
Открылась нам; от века своего
Я не видал еще такой огромной.
Сменилось плачем наше торжество:
От новых стран поднялся вихрь, с налета
Ударил в судно, повернул его
Три раза в быстрине водоворота;
Корма взметнулась на четвертый раз,
Нос канул книзу, как назначил Кто-то,
И море, хлынув, поглотило нас».
ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ Уже горел прямым и ровным светом Умолкший пламень, уходя во тьму, Отпущенный приветливым поэтом, — Когда другой, возникший вслед ему, Невнятным гулом, рвущимся из жала, Привлек наш взор к верховью своему. Как сицилийский бык, взревев сначала От возгласов того, — и поделом, — Чье мастерство его образовало, Ревел от голоса казнимых в нем И, хоть он был всего лишь медь литая, Страдающим казался существом, Так, в пламени пути не обретая, В его наречье, в нераздельный рык, Слова преображались, вылетая. Когда же звук их наконец проник Сквозь острие, придав ему дрожанье, Которое им сообщал язык, К нам донеслось: «К тебе мое воззванье, О ты, что, по-ломбардски говоря, Сказал: «Иди, я утолил желанье!» Мольбу, быть может, позднюю творя, Молю, помедли здесь, где мы страдаем: Смотри, я медлю пред тобой, горя! Когда, простясь с латинским милым краем, Ты только что достиг слепого дна, Где я за грех содеянный терзаем, Скажи: в Романье — мир или война? От стен Урбино и до горной сени, Вскормившей Тибр, лежит моя страна». Я вслушивался, полон размышлений, Когда вожатый, тронув локоть мне, Промолвил так: «Ответь латинской тени». Уже ответ мой был готов вполне, И я сказал, мгновенно речь построя: «О дух, сокрытый в этой глубине, Твоя Романья даже в дни покоя Без войн в сердцах тиранов не жила; Но явного сейчас не видно боя. Равенна — все такая, как была: Орел Поленты в ней обосновался, До самой Червьи распластав крыла. Оплот, который долго защищался И где французов алый холм полег, В зеленых лапах ныне оказался. Барбос Верруккьо и его щенок, С Монтаньей обошедшиеся скверно, Сверлят зубами тот же все кусок. В твердынях над Ламоне и Сантерпо Владычит львенок белого герба, Друзей меняя дважды в год примерно; А та, где льется Савьо, той судьба Между горой и долом находиться, Живя меж волей и ярмом раба. Но кто же ты, прошу тебя открыться; Ведь я тебе охотно отвечал, — Пусть в мире память о тебе продлится!» Сперва огонь немного помычал По-своему, потом, качнув не сразу Колючую вершину, прозвучал»: «Когда б я знал, что моему рассказу Внимает тот, кто вновь увидит свет, То мой огонь не дрогнул бы ни разу. Но так как в мир от нас возврата нет И я такого не слыхал примера, Я, не страшась позора, дам» ответ. Я меч сменил на пояс кордильера И верил, что приемлю благодать; И так моя исполнилась бы вера, Когда бы в грех не ввел меня опять Верховный пастырь (злой ему судьбины!); Как это было, — я хочу сказать. Пока я нес, в минувшие годины, Дар материнский мяса и костей, Обычай мой был лисий, а не львиный. Я знал все виды потайных путей И ведал ухищренья всякой масти; Край света слышал звук моих затей. Когда я понял, что достиг той части Моей стези, где мудрый человек, Убрав свой парус, сматывает снасти, Все, что меня пленяло, я отсек; И, сокрушенно исповедь содеяв, — О горе мне! — я спасся бы навек. Первоначальник новых фарисеев, Воюя в тех местах, где Латеран, Не против сарацин иль иудеев, Затем что в битву шел на христиан, Не виноватых в том, что Акра взята, Не торговавших в землях басурман, Свой величавый сан и все, что свято, Презрел в себе, во мне — смиренный чин И вервь, тела сушившую когда-то, И, словно прокаженный Константин, Сильвестра из Сираттских недр призвавший, Призвал меня, решив, что я один Уйму надменный жар, его снедавший; Я слушал и не знал, что возразить: Как во хмелю казался вопрошавший. «Не бойся, — продолжал он говорить, — Ты согрешенью будешь непричастен, Подав совет, как Пенестрино срыть. Рай запирать и отпирать я властен; Я два ключа недаром получил, К которым мой предместник был бесстрастен». Меня столь важный довод оттеснил Туда, где я молчать не смел бы доле, И я: «Отец, когда с меня ты смыл Мой грех, творимый по твоей же воле, — Да будет твой посул длиннее дел, И возликуешь на святом престоле». В мой смертный час Франциск за мной слетел, Но некий черный херувим вступился, Сказав: «Не тронь; я им давно владел. Пора, чтоб он к моим рабам спустился; С тех пор как он коварный дал урок, Ему я крепко в волосы вцепился; Не каясь, он прощенным быть не мог, А каяться, грешить желая все же, Нельзя: в таком сужденье есть порок». Как содрогнулся я, великий боже, Когда меня он ухватил, спросив: «А ты не думал, что я логик тоже?» Он снес меня к Миносу; тот, обвив Хвост восемь раз вокруг спины могучей, Его от злобы даже укусив, Сказал: «Ввергается в огонь крадучий!» И вот я гибну, где ты зрел меня, И скорбно движусь в этой ризе жгучей!» Свою докончив повесть, столб огня Покинул нас, терзанием объятый, Колючий рог свивая и клоня. И дальше, гребнем, я и мой вожатый Прошли туда, где нависает свод Над рвом, в котором требуют расплаты От тех, кто, разделяя, копит гнет.
ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ Кто мог бы, даже вольными словами, Поведать, сколько б он ни повторял, Всю кровь и раны, виденные нами? Любой язык наверно бы сплошал: Объем рассудка нашего и речи, Чтобы вместить так много, слишком мал. Когда бы вновь сошлись, в крови увечий, Все, кто в Пулийской роковой стране, Страдая, изнемог на поле сечи От рук троян и в длительной войне, Перстнями заплатившей дань гордыне, Как пишет Ливии, истинный вполне; И те, кто тщился дать отпор дружине, Которую привел Руберт Гвискар, И те, чьи кости отрывают ныне Близ Чеперано, где нанес удар Обман пулийцев, и кого лукавый У Тальякоццо одолел Алар; И кто култыгу, кто разруб кровавый Казать бы стал, — их превзойдет в сто крат Девятый ров чудовищной расправой. Не так дыряв, утратив дно, ушат, Как здесь нутро у одного зияло От самых губ дотуда, где смердят: Копна кишок между колен свисала, Виднелось сердце с мерзостной мошной, Где съеденное переходит в кало.
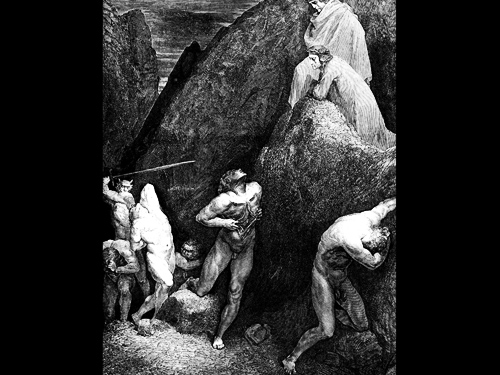 Несчастный, взглядом встретившись со мной,
Разверз руками грудь, от крови влажен,
И молвил так: «Смотри на образ мой!
Смотри, как Магомет обезображен!
Передо мной, стеня, идет Али,
Ему весь череп надвое рассажен.
И все, кто здесь, и рядом, и вдали, —
Виновны были в распрях и раздорах
Среди живых, и вот их рассекли.
Там сзади дьявол, с яростью во взорах,
Калечит нас и не дает пройти,
Кладя под лезвее все тот же ворох
На повороте скорбного пути;
Затем что раны, прежде чем мы снова
К нему дойдем, успеют зарасти.
А ты, что с гребня смотришь так сурово,
Ты кто? Иль медлишь и страшишься дна,
Где мука для повинного готова?»
Вождь молвил: «Он не мертв, и не вина
Ведет его подземною тропою;
Но чтоб он мог изведать все сполна,
Мне, мертвому, назначено судьбою
Вести его сквозь Ад из круга в круг;
И это — так, как я — перед тобою».
Их больше ста остановилось вдруг,
Услышав это, и с недвижным взглядом
Дивилось мне, своих не помня мук.
«Скажи Дольчино, если вслед за Адом
Увидишь солнце: пусть снабдится он,
Когда не жаждет быть со мною рядом,
Припасами, чтоб снеговой заслон
Не подоспел новарцам на подмогу;
Тогда нескоро будет побежден».
Так молвил Магомет, когда он ногу
Уже приподнял, чтоб идти; потом
Ее простер и двинулся в дорогу.
Другой, с насквозь пронзенным кадыком,
Без носа, отсеченного по брови,
И одноухий, на пути своем
Остановясь при небывалом слове,
Всех прежде растворил гортань, извне
Багровую от выступавшей крови,
И молвил: «Ты, безвинный, если мне
Не лжет подобьем внешняя личина,
Тебя я знал в латинской стороне;
И ты припомни Пьер да Медичина,
Там, где от стен Верчелли вьет межи
До Маркабб отрадная равнина,
И так мессеру Гвидо расскажи
И Анджолелло, лучшим людям Фано,
Что, если здесь в провиденье нет лжи,
Их с корабля наемники обмана
Столкнут вблизи Каттолики в бурун,
По вероломству злобного тирана.
От Кипра до Майорки, сколько лун
Ни буйствуют пираты или греки,
Черней злодейства не видал Нептун.
Обоих кривоглазый изверг некий,
Владетель мест, которых мой сосед
Хотел бы лучше не видать вовеки,
К себе заманит как бы для бесед;
Но у Фокары им уже не нужны
Окажутся молитва и обет».
И я на это: «Чтобы в мир наружный
Весть о тебе я подал тем, кто жив,
Скажи: чьи это очи так недужны?»
Тогда, на челюсть руку положив
Товарищу, он рот ему раздвинул,
Вскричав: «Вот он; теперь он молчалив.
Он, изгнанный, от Цезаря отринул
Сомнения, сказав: «Кто снаряжен,
Не должен ждать, чтоб час удобный минул».
О, до чего казался мне смущен,
С обрубком языка, торчащим праздно,
Столь дерзостный на речи Курион!
Несчастный, взглядом встретившись со мной,
Разверз руками грудь, от крови влажен,
И молвил так: «Смотри на образ мой!
Смотри, как Магомет обезображен!
Передо мной, стеня, идет Али,
Ему весь череп надвое рассажен.
И все, кто здесь, и рядом, и вдали, —
Виновны были в распрях и раздорах
Среди живых, и вот их рассекли.
Там сзади дьявол, с яростью во взорах,
Калечит нас и не дает пройти,
Кладя под лезвее все тот же ворох
На повороте скорбного пути;
Затем что раны, прежде чем мы снова
К нему дойдем, успеют зарасти.
А ты, что с гребня смотришь так сурово,
Ты кто? Иль медлишь и страшишься дна,
Где мука для повинного готова?»
Вождь молвил: «Он не мертв, и не вина
Ведет его подземною тропою;
Но чтоб он мог изведать все сполна,
Мне, мертвому, назначено судьбою
Вести его сквозь Ад из круга в круг;
И это — так, как я — перед тобою».
Их больше ста остановилось вдруг,
Услышав это, и с недвижным взглядом
Дивилось мне, своих не помня мук.
«Скажи Дольчино, если вслед за Адом
Увидишь солнце: пусть снабдится он,
Когда не жаждет быть со мною рядом,
Припасами, чтоб снеговой заслон
Не подоспел новарцам на подмогу;
Тогда нескоро будет побежден».
Так молвил Магомет, когда он ногу
Уже приподнял, чтоб идти; потом
Ее простер и двинулся в дорогу.
Другой, с насквозь пронзенным кадыком,
Без носа, отсеченного по брови,
И одноухий, на пути своем
Остановясь при небывалом слове,
Всех прежде растворил гортань, извне
Багровую от выступавшей крови,
И молвил: «Ты, безвинный, если мне
Не лжет подобьем внешняя личина,
Тебя я знал в латинской стороне;
И ты припомни Пьер да Медичина,
Там, где от стен Верчелли вьет межи
До Маркабб отрадная равнина,
И так мессеру Гвидо расскажи
И Анджолелло, лучшим людям Фано,
Что, если здесь в провиденье нет лжи,
Их с корабля наемники обмана
Столкнут вблизи Каттолики в бурун,
По вероломству злобного тирана.
От Кипра до Майорки, сколько лун
Ни буйствуют пираты или греки,
Черней злодейства не видал Нептун.
Обоих кривоглазый изверг некий,
Владетель мест, которых мой сосед
Хотел бы лучше не видать вовеки,
К себе заманит как бы для бесед;
Но у Фокары им уже не нужны
Окажутся молитва и обет».
И я на это: «Чтобы в мир наружный
Весть о тебе я подал тем, кто жив,
Скажи: чьи это очи так недужны?»
Тогда, на челюсть руку положив
Товарищу, он рот ему раздвинул,
Вскричав: «Вот он; теперь он молчалив.
Он, изгнанный, от Цезаря отринул
Сомнения, сказав: «Кто снаряжен,
Не должен ждать, чтоб час удобный минул».
О, до чего казался мне смущен,
С обрубком языка, торчащим праздно,
Столь дерзостный на речи Курион!
 И тут другой, увечный безобразно,
Подняв остатки рук в окрестной мгле,
Так что лицо от крови стало грязно,
Вскричал: «И Моску вспомни в том числе,
Сказавшего: «Кто кончил, — дело справил».
Он злой посев принес родной земле».
«И смерть твоим сокровным!» — я добавил.
Боль болью множа, он в тоске побрел
И словно здравый ум его оставил.
А я смотрел на многолюдный дол
И видел столь немыслимое дело,
Что речь о нем я вряд ли бы повел,
Когда бы так не совесть мне велела,
Подруга, ободряющая нас
В кольчугу правды облекаться смело.
Я видел, вижу словно и сейчас,
Как тело безголовое шагало
В толпе, кружащей неисчетный раз,
И срезанную голову держало
За космы, как фонарь, и голова
Взирала к нам и скорбно восклицала.
Он сам себе светил, и было два
В одном, единый в образе двойного,
Как — знает Тот, чья власть во всем права.
Остановясь у свода мостового,
Он кверху руку с головой простер,
Чтобы ко мне свое приблизить слово,
Такое вот: «Склони к мученьям взор,
Ты, что меж мертвых дышишь невозбранно!
Ты горших мук не видел до сих пор.
И если весть и обо мне желанна,
Знай: я Бертрам де Борн, тот, что в былом
Учил дурному короля Иоанна.
Я брань воздвиг меж сыном и отцом:
Не так Ахитофеловым советом
Давид был ранен и Авессалом.
Я связь родства расторг пред целым светом;
За это мозг мой отсечен навек
От корня своего в обрубке этом:
И тут другой, увечный безобразно,
Подняв остатки рук в окрестной мгле,
Так что лицо от крови стало грязно,
Вскричал: «И Моску вспомни в том числе,
Сказавшего: «Кто кончил, — дело справил».
Он злой посев принес родной земле».
«И смерть твоим сокровным!» — я добавил.
Боль болью множа, он в тоске побрел
И словно здравый ум его оставил.
А я смотрел на многолюдный дол
И видел столь немыслимое дело,
Что речь о нем я вряд ли бы повел,
Когда бы так не совесть мне велела,
Подруга, ободряющая нас
В кольчугу правды облекаться смело.
Я видел, вижу словно и сейчас,
Как тело безголовое шагало
В толпе, кружащей неисчетный раз,
И срезанную голову держало
За космы, как фонарь, и голова
Взирала к нам и скорбно восклицала.
Он сам себе светил, и было два
В одном, единый в образе двойного,
Как — знает Тот, чья власть во всем права.
Остановясь у свода мостового,
Он кверху руку с головой простер,
Чтобы ко мне свое приблизить слово,
Такое вот: «Склони к мученьям взор,
Ты, что меж мертвых дышишь невозбранно!
Ты горших мук не видел до сих пор.
И если весть и обо мне желанна,
Знай: я Бертрам де Борн, тот, что в былом
Учил дурному короля Иоанна.
Я брань воздвиг меж сыном и отцом:
Не так Ахитофеловым советом
Давид был ранен и Авессалом.
Я связь родства расторг пред целым светом;
За это мозг мой отсечен навек
От корня своего в обрубке этом:
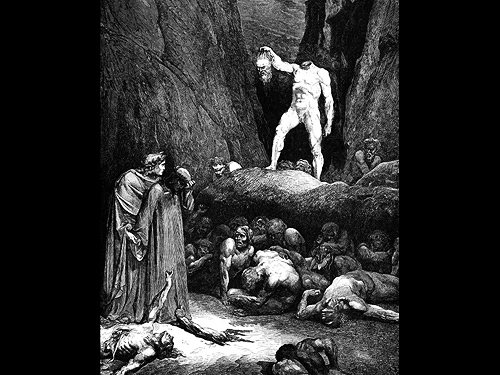 И я, как все, возмездья не избег».
И я, как все, возмездья не избег».
ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ Вид этих толп и этого терзанья Так упоил мои глаза, что мне Хотелось плакать, не тая страданья. «Зачем твой взор прикован к глубине? Чего ты ищешь, — мне сказал Вергилий, — Среди калек на этом скорбном дне?
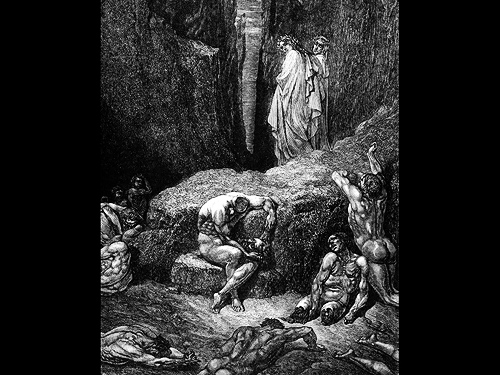 Другие рвы тебя не так манили;
Знай, если душам ты подводишь счет,
Что путь их — в двадцать две окружных мили.
Уже луна у наших ног плывет;
Недолгий срок осталось нам скитаться,
И впереди тебя другое ждет».
Я отвечал: «Когда б ты мог дознаться,
Что я хотел увидеть, ты и сам
Велел бы мне, быть может, задержаться».
Так говоря в ответ его словам,
Уже я шел, а впереди вожатый,
И я добавил: «В этой яме, там,
Куда я взор стремил, тоской объятый,
Один мой родич должен искупать
Свою вину, платя столь тяжкой платой».
И вождь: «Раздумий на него не трать;
Что ты его не встретил, — нет потери,
И не о нем ты должен помышлять.
Я видел с моста: гневен в высшей мере,
Он на тебя указывал перстом;
Его, я слышал, кто-то назвал Джери.
Ты в это время думал о другом,
Готфорского приметив властелина,
И не видал; а он ушел потом».
И я: «Мой вождь, насильная кончина,
Которой не отмстили за него
Те, кто понес бесчестье, — вот причина
Его негодованья; оттого
Он и ушел, со мною нелюдимый;
И мне тем больше стало жаль его».
Так говоря, на новый свод взошли мы,
Над следующим рвом, и, будь светлей,
Нам были бы до самой глуби зримы
Последняя обитель Злых Щелей
И вся ее бесчисленная братья;
Когда мы стали, в вышине, над ней,
В меня вонзились вопли и проклятья,
Как стрелы, заостренные тоской;
От боли уши должен был зажать я.
Какой бы стон был, если б в летний зной
Собрать гуртом больницы Вальдикьяны,
Мареммы и Сардиньи и в одной
Сгрудить дыре, — так этот ров поганый
Вопил внизу, и смрад над ним стоял,
Каким смердят гноящиеся раны.
Мой вождь и я сошли на крайний вал,
Свернув, как прежде, влево от отрога,
И здесь мой взгляд живее проникал
До глуби, где, служительница бога,
Суровая карает Правота
Поддельщиков, которых числит строго.
Едва ли горше мука разлита
Была над вымирающей Эгиной,
Когда зараза стала так люта,
Что все живые твари до единой
Побило мором, и былой народ
Воссоздан был породой муравьиной,
Как из певцов иной передает, —
Чем здесь, где духи вдоль по дну слепому
То кучами томились, то вразброд.
Кто на живот, кто на плечи другому
Упав, лежал, а кто ползком, в пыли,
По скорбному передвигался дому.
За шагом шаг, мы молчаливо шли,
Склоняя взор и слух к толпе болевших,
Бессильных приподняться от земли.
Я видел двух, спина к спине сидевших,
Как две сковороды поверх огня,
И от ступней по темя острупевших.
Поспешней конюх не скребет коня,
Когда он знает — господин заждался,
Иль утомившись на исходе дня,
Чем тот и этот сам в себя вгрызался
Ногтями, чтоб на миг унять свербеж,
Который только этим облегчался.
Их ногти кожу обдирали сплошь,
Как чешую с крупночешуйной рыбы
Или с леща соскабливает нож.
«О ты, чьи все растерзаны изгибы,
А пальцы, словно клещи, мясо рвут, —
Вождь одному промолвил, — не могли бы
Мы от тебя услышать, нет ли тут
Каких латинян? Да не обломаешь
Вовек ногтей, несущих этот труд!»
Он всхлипнул так: «Ты и сейчас взираешь
На двух латинян и на их беду.
Но кто ты сам, который вопрошаешь?»
И вождь сказал: «Я с ним, живым, иду
Из круга в круг по темному простору,
Чтоб он увидел все, что есть в Аду».
Тогда, сломав взаимную опору,
Они, дрожа, взглянули на меня,
И все, кто был свидетель разговору.
Учитель, ясный взор ко мне склоня,
Сказал: «Скажи им, что тебе угодно».
И я, охотно волю подчиня:
«Пусть память ваша не прейдет бесплодно
В том первом мире, где вы рождены,
Но много солнц продлится всенародно!
Скажите, кто вы, из какой страны;
Вы ваших омерзительных мучений
Передо мной стыдиться не должны».
«Я из Ареццо; и Альберо в Сьене, —
Ответил дух, — спалил меня, хотя
И не за то, за что я в царстве теней.
Я, правда, раз ему сказал, шутя:
«Я и полет по воздуху изведал»;
А он, живой и глупый, как дитя,
Просил его наставить; так как Дедал
Не вышел из него, то тот, кому
Он был как сын, меня сожженью предал.
Но я алхимик был, и потому
Минос, который ввек не ошибется,
Меня послал в десятую тюрьму».
И я поэту: «Где еще найдется
Народ беспутней сьенцев? И самим
Французам с ними нелегко бороться!»
Тогда другой лишавый, рядом с ним,
Откликнулся: «За исключеньем Стрикки,
Умевшего в расходах быть скупым;
И Никколо, любителя гвоздики,
Которую он первый насадил
В саду, принесшем урожай великий;
И дружества, в котором прокутил
Ашанский Качча и сады, и чащи,
А Аббальято разум истощил.
И чтоб ты знал, кто я, с тобой трунящий
Над сьенцами, всмотрись в мои черты
И убедись, что этот дух скорбящий —
Капоккьо, тот, что в мире суеты
Алхимией подделывал металлы;
Я, как ты помнишь, если это ты,
Искусник в обезьянстве был немалый».
Другие рвы тебя не так манили;
Знай, если душам ты подводишь счет,
Что путь их — в двадцать две окружных мили.
Уже луна у наших ног плывет;
Недолгий срок осталось нам скитаться,
И впереди тебя другое ждет».
Я отвечал: «Когда б ты мог дознаться,
Что я хотел увидеть, ты и сам
Велел бы мне, быть может, задержаться».
Так говоря в ответ его словам,
Уже я шел, а впереди вожатый,
И я добавил: «В этой яме, там,
Куда я взор стремил, тоской объятый,
Один мой родич должен искупать
Свою вину, платя столь тяжкой платой».
И вождь: «Раздумий на него не трать;
Что ты его не встретил, — нет потери,
И не о нем ты должен помышлять.
Я видел с моста: гневен в высшей мере,
Он на тебя указывал перстом;
Его, я слышал, кто-то назвал Джери.
Ты в это время думал о другом,
Готфорского приметив властелина,
И не видал; а он ушел потом».
И я: «Мой вождь, насильная кончина,
Которой не отмстили за него
Те, кто понес бесчестье, — вот причина
Его негодованья; оттого
Он и ушел, со мною нелюдимый;
И мне тем больше стало жаль его».
Так говоря, на новый свод взошли мы,
Над следующим рвом, и, будь светлей,
Нам были бы до самой глуби зримы
Последняя обитель Злых Щелей
И вся ее бесчисленная братья;
Когда мы стали, в вышине, над ней,
В меня вонзились вопли и проклятья,
Как стрелы, заостренные тоской;
От боли уши должен был зажать я.
Какой бы стон был, если б в летний зной
Собрать гуртом больницы Вальдикьяны,
Мареммы и Сардиньи и в одной
Сгрудить дыре, — так этот ров поганый
Вопил внизу, и смрад над ним стоял,
Каким смердят гноящиеся раны.
Мой вождь и я сошли на крайний вал,
Свернув, как прежде, влево от отрога,
И здесь мой взгляд живее проникал
До глуби, где, служительница бога,
Суровая карает Правота
Поддельщиков, которых числит строго.
Едва ли горше мука разлита
Была над вымирающей Эгиной,
Когда зараза стала так люта,
Что все живые твари до единой
Побило мором, и былой народ
Воссоздан был породой муравьиной,
Как из певцов иной передает, —
Чем здесь, где духи вдоль по дну слепому
То кучами томились, то вразброд.
Кто на живот, кто на плечи другому
Упав, лежал, а кто ползком, в пыли,
По скорбному передвигался дому.
За шагом шаг, мы молчаливо шли,
Склоняя взор и слух к толпе болевших,
Бессильных приподняться от земли.
Я видел двух, спина к спине сидевших,
Как две сковороды поверх огня,
И от ступней по темя острупевших.
Поспешней конюх не скребет коня,
Когда он знает — господин заждался,
Иль утомившись на исходе дня,
Чем тот и этот сам в себя вгрызался
Ногтями, чтоб на миг унять свербеж,
Который только этим облегчался.
Их ногти кожу обдирали сплошь,
Как чешую с крупночешуйной рыбы
Или с леща соскабливает нож.
«О ты, чьи все растерзаны изгибы,
А пальцы, словно клещи, мясо рвут, —
Вождь одному промолвил, — не могли бы
Мы от тебя услышать, нет ли тут
Каких латинян? Да не обломаешь
Вовек ногтей, несущих этот труд!»
Он всхлипнул так: «Ты и сейчас взираешь
На двух латинян и на их беду.
Но кто ты сам, который вопрошаешь?»
И вождь сказал: «Я с ним, живым, иду
Из круга в круг по темному простору,
Чтоб он увидел все, что есть в Аду».
Тогда, сломав взаимную опору,
Они, дрожа, взглянули на меня,
И все, кто был свидетель разговору.
Учитель, ясный взор ко мне склоня,
Сказал: «Скажи им, что тебе угодно».
И я, охотно волю подчиня:
«Пусть память ваша не прейдет бесплодно
В том первом мире, где вы рождены,
Но много солнц продлится всенародно!
Скажите, кто вы, из какой страны;
Вы ваших омерзительных мучений
Передо мной стыдиться не должны».
«Я из Ареццо; и Альберо в Сьене, —
Ответил дух, — спалил меня, хотя
И не за то, за что я в царстве теней.
Я, правда, раз ему сказал, шутя:
«Я и полет по воздуху изведал»;
А он, живой и глупый, как дитя,
Просил его наставить; так как Дедал
Не вышел из него, то тот, кому
Он был как сын, меня сожженью предал.
Но я алхимик был, и потому
Минос, который ввек не ошибется,
Меня послал в десятую тюрьму».
И я поэту: «Где еще найдется
Народ беспутней сьенцев? И самим
Французам с ними нелегко бороться!»
Тогда другой лишавый, рядом с ним,
Откликнулся: «За исключеньем Стрикки,
Умевшего в расходах быть скупым;
И Никколо, любителя гвоздики,
Которую он первый насадил
В саду, принесшем урожай великий;
И дружества, в котором прокутил
Ашанский Качча и сады, и чащи,
А Аббальято разум истощил.
И чтоб ты знал, кто я, с тобой трунящий
Над сьенцами, всмотрись в мои черты
И убедись, что этот дух скорбящий —
Капоккьо, тот, что в мире суеты
Алхимией подделывал металлы;
Я, как ты помнишь, если это ты,
Искусник в обезьянстве был немалый».
ПЕСНЬ ТРИДЦАТАЯ В те дни, когда Юнона воспылала Из-за Семелы гневом на фивян, Как многократно это показала, — На разум Афаманта пал туман, И, на руках увидев у царицы Своих сынов, безумством обуян, Царь закричал: «Поставим сеть для львицы Со львятами и путь им преградим!» — И, простирая когти хищной птицы, Схватил Леарха, размахнулся им И раздробил младенца о каменья; Мать утопилась вместе со вторым. И в дни, когда с вершины дерзновенья Фортуна Трою свергла в глубину И сгинули владетель и владенья, Гекуба, в горе, в бедствиях, в плену, Увидев Поликсену умерщвленной, А там, где море в берег бьет волну, Труп Полидора, страшно искаженный, Залаяла, как пес, от боли взвыв: Не устоял рассудок потрясенный. Но ни троянский гнев, ни ярость Фив Свирепей не являли исступлений, Зверям иль людям тело изъязвив,
 Чем предо мной две бледных голых тени,
Которые, кусая всех кругом,
Неслись, как боров, поломавший сени.
Одна Капоккьо в шею вгрызлась ртом
И с ним помчалась; испуская крики,
Он скреб о жесткий камень животом.
Дрожа всем телом: «Это Джанни Скикки, —
Промолвил аретинец. — Всем постыл,
Он донимает всех, такой вот дикий».
«О, чтоб другой тебя не укусил!
Пока он здесь, дай мне ответ нетрудный,
Скажи, кто он», — его я попросил.
Он молвил: «Это Мирры безрассудной
Старинный дух, той, что плотских утех
С родным отцом искала в страсти блудной,
Чем предо мной две бледных голых тени,
Которые, кусая всех кругом,
Неслись, как боров, поломавший сени.
Одна Капоккьо в шею вгрызлась ртом
И с ним помчалась; испуская крики,
Он скреб о жесткий камень животом.
Дрожа всем телом: «Это Джанни Скикки, —
Промолвил аретинец. — Всем постыл,
Он донимает всех, такой вот дикий».
«О, чтоб другой тебя не укусил!
Пока он здесь, дай мне ответ нетрудный,
Скажи, кто он», — его я попросил.
Он молвил: «Это Мирры безрассудной
Старинный дух, той, что плотских утех
С родным отцом искала в страсти блудной,
 Она такой же с ним свершила грех,
Себя подделав и обману рада,
Как тот, кто там бежит, терзая всех,
Который, пожелав хозяйку стада,
Подделал старого Буозо, лег
И завещанье совершил, как надо».
Когда и тот, и этот стал далек
Свирепый дух, мой взор, опять спокоен,
К другим несчастным обратиться мог.
Один совсем как лютня был устроен;
Ему бы лишь в паху отсечь долой
Весь низ, который у людей раздвоен.
Водянка порождала в нем застой
Телесных соков, всю его середку
Раздув несоразмерно с головой.
И он, от жажды разевая глотку,
Распялил губы, как больной в огне,
Одну наверх, другую к подбородку.
«Вы, почему-то здравыми вполне
Сошедшие в печальные овраги, —
Сказал он нам, — склоните взор ко мне!
Вот казнь Адамо, мастера-бедняги!
Я утолял все прихоти свои,
А здесь я жажду хоть бы каплю влаги.
Все время казентинские ручьи,
С зеленых гор свергающие в Арно
По мягким руслам свежие струи,
Передо мною блещут лучезарно.
И я в лице от этого иссох;
Моя болезнь, и та не так коварна.
Там я грешил, там схвачен был врасплох,
И вот теперь — к местам, где я лукавил,
Я осужден стремить за вздохом вздох.
Я там, в Ромене, примесью бесславил
Крестителем запечатленный сплав,
За что и тело на костре оставил.
Чтоб здесь увидеть, за их гнусный нрав,
Тень Гвидо, Алессандро иль их братца,
Всю Бранду я отдам, возликовав.
Один уж прибыл, если полагаться
На этих буйных, бегающих тут.
Да что мне в этом, раз нет сил подняться?
Когда б я был чуть-чуть поменьше вздут,
Чтоб дюйм пройти за сотню лет усилий,
Я бы давно предпринял этот труд,
Ища его среди всей этой гнили,
Хотя дорожных миль по кругу здесь
Одиннадцать да поперек полмили.
Я из-за них обезображен весь;
Для них я подбавлял неутомимо
К флоринам трехкаратную подмесь».
И я: «Кто эти двое, в клубе дыма,
Как на морозе мокрая рука,
Что справа распростерты недвижимо?»
Он отвечал: «Я их, к щеке щека,
Так и застал, когда был втянут Адом;
Лежать им, видно, вечные века.
Вот лгавшая на Иосифа; а рядом
Троянский грек и лжец Синон; их жжет
Горячка, потому и преют чадом».
Сосед, решив, что не такой почет
Заслуживает знатная особа,
Ткнул кулаком в его тугой живот.
Как барабан, откликнулась утроба;
Но мастер по лицу его огрел
Рукой, насколько позволяла злоба,
Сказав ему: «Хоть я отяжелел
И мне в движенье тело непокорно,
Рука еще годна для этих дел».
«Шагая в пламя, — молвил тот задорно, —
Ты был не так-то на руку ретив,
А деньги бить она была проворна».
И толстопузый: «В этом ты правдив,
Куда правдивей, чем когда троянам
Давал ответ, душою покривив».
И грек: «Я словом лгал, а ты — чеканом!
Всего один проступок у меня,
А ты всех бесов превзошел обманом!»
«Клятвопреступник, вспомни про коня, —
Ответил вздутый, — и казнись позором,
Всем памятным до нынешнего дня!»
«А ты казнись, — сказал Синон, — напором
Гнилой водицы, жаждой иссушен
И животом заставясь, как забором!»
Тогда монетчик: «Искони времен
Твою гортань от скверны раздирало;
Я жажду, да, и соком наводнен,
А ты горишь, мозг болью изглодало,
И ты бы кинулся на первый зов
Лизнуть разок Нарциссово зерцало».
Я вслушивался в звуки этих слов,
Но вождь сказал: «Что ты нашел за диво?
Я рассердиться на тебя готов».
Когда он так проговорил гневливо,
Я на него взглянул с таким стыдом,
Что до сих пор воспоминанье живо.
Как тот, кто, удрученный скорбным сном,
Во сне хотел бы, чтобы это снилось,
О сущем грезя, как о небылом,
Таков был я: мольба к устам теснилась;
Я ждал, что, вняв ей, он меня простит,
И я не знал, что мне уже простилось.
«Крупней вину смывает меньший стыд, —
Сказал мой вождь, — и то, о чем мы судим,
Тебя уныньем пусть не тяготит.
Но знай, что я с тобой, когда мы будем
Идти, быть может, так же взор склонив
К таким вот препирающимся людям:
Позыв их слушать — низменный позыв».
Она такой же с ним свершила грех,
Себя подделав и обману рада,
Как тот, кто там бежит, терзая всех,
Который, пожелав хозяйку стада,
Подделал старого Буозо, лег
И завещанье совершил, как надо».
Когда и тот, и этот стал далек
Свирепый дух, мой взор, опять спокоен,
К другим несчастным обратиться мог.
Один совсем как лютня был устроен;
Ему бы лишь в паху отсечь долой
Весь низ, который у людей раздвоен.
Водянка порождала в нем застой
Телесных соков, всю его середку
Раздув несоразмерно с головой.
И он, от жажды разевая глотку,
Распялил губы, как больной в огне,
Одну наверх, другую к подбородку.
«Вы, почему-то здравыми вполне
Сошедшие в печальные овраги, —
Сказал он нам, — склоните взор ко мне!
Вот казнь Адамо, мастера-бедняги!
Я утолял все прихоти свои,
А здесь я жажду хоть бы каплю влаги.
Все время казентинские ручьи,
С зеленых гор свергающие в Арно
По мягким руслам свежие струи,
Передо мною блещут лучезарно.
И я в лице от этого иссох;
Моя болезнь, и та не так коварна.
Там я грешил, там схвачен был врасплох,
И вот теперь — к местам, где я лукавил,
Я осужден стремить за вздохом вздох.
Я там, в Ромене, примесью бесславил
Крестителем запечатленный сплав,
За что и тело на костре оставил.
Чтоб здесь увидеть, за их гнусный нрав,
Тень Гвидо, Алессандро иль их братца,
Всю Бранду я отдам, возликовав.
Один уж прибыл, если полагаться
На этих буйных, бегающих тут.
Да что мне в этом, раз нет сил подняться?
Когда б я был чуть-чуть поменьше вздут,
Чтоб дюйм пройти за сотню лет усилий,
Я бы давно предпринял этот труд,
Ища его среди всей этой гнили,
Хотя дорожных миль по кругу здесь
Одиннадцать да поперек полмили.
Я из-за них обезображен весь;
Для них я подбавлял неутомимо
К флоринам трехкаратную подмесь».
И я: «Кто эти двое, в клубе дыма,
Как на морозе мокрая рука,
Что справа распростерты недвижимо?»
Он отвечал: «Я их, к щеке щека,
Так и застал, когда был втянут Адом;
Лежать им, видно, вечные века.
Вот лгавшая на Иосифа; а рядом
Троянский грек и лжец Синон; их жжет
Горячка, потому и преют чадом».
Сосед, решив, что не такой почет
Заслуживает знатная особа,
Ткнул кулаком в его тугой живот.
Как барабан, откликнулась утроба;
Но мастер по лицу его огрел
Рукой, насколько позволяла злоба,
Сказав ему: «Хоть я отяжелел
И мне в движенье тело непокорно,
Рука еще годна для этих дел».
«Шагая в пламя, — молвил тот задорно, —
Ты был не так-то на руку ретив,
А деньги бить она была проворна».
И толстопузый: «В этом ты правдив,
Куда правдивей, чем когда троянам
Давал ответ, душою покривив».
И грек: «Я словом лгал, а ты — чеканом!
Всего один проступок у меня,
А ты всех бесов превзошел обманом!»
«Клятвопреступник, вспомни про коня, —
Ответил вздутый, — и казнись позором,
Всем памятным до нынешнего дня!»
«А ты казнись, — сказал Синон, — напором
Гнилой водицы, жаждой иссушен
И животом заставясь, как забором!»
Тогда монетчик: «Искони времен
Твою гортань от скверны раздирало;
Я жажду, да, и соком наводнен,
А ты горишь, мозг болью изглодало,
И ты бы кинулся на первый зов
Лизнуть разок Нарциссово зерцало».
Я вслушивался в звуки этих слов,
Но вождь сказал: «Что ты нашел за диво?
Я рассердиться на тебя готов».
Когда он так проговорил гневливо,
Я на него взглянул с таким стыдом,
Что до сих пор воспоминанье живо.
Как тот, кто, удрученный скорбным сном,
Во сне хотел бы, чтобы это снилось,
О сущем грезя, как о небылом,
Таков был я: мольба к устам теснилась;
Я ждал, что, вняв ей, он меня простит,
И я не знал, что мне уже простилось.
«Крупней вину смывает меньший стыд, —
Сказал мой вождь, — и то, о чем мы судим,
Тебя уныньем пусть не тяготит.
Но знай, что я с тобой, когда мы будем
Идти, быть может, так же взор склонив
К таким вот препирающимся людям:
Позыв их слушать — низменный позыв».
ПЕСНЬ ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ Язык, который так меня ужалил, Что даже изменился цвет лица, Мне сам же и лекарством язву залил; Копье Ахилла и его отца Бывало так же, слышал я, причиной Начальных мук и доброго конца. Спиной к больному рву, мы шли равниной, Которую он поясом облег, И слова не промолвил ни единый. Ни ночь была, ни день, и я не мог Проникнуть взором в дали окоема, Но вскоре я услышал зычный рог, Который громче был любого грома, И я глаза навел на этот рев, Как будто зренье было им влекомо. В плачевной сече, где святых бойцов Великий Карл утратил в оны лета, Не так ужасен был Орландов зов. И вот возник из сумрачного света Каких-то башен вознесенный строй; И я «Учитель, что за город это?» «Ты мечешь взгляд, — сказал вожатый мой, — Сквозь этот сумрак слишком издалека, А это может обмануть порой. Ты убедишься, приближая око, Как, издали судя, ты был неправ; Так подбодрись же и шагай широко». И, ласково меня за руку взяв: «Чтобы тебе их облик не был страшен, Узнай сейчас, еще не увидав, Что это — строй гигантов, а не башен; Они стоят в колодце, вкруг жерла, И низ их, от пупа, оградой скрашен».
 Как, если тает облачная мгла,
Взгляд начинает различать немного
Все то, что муть туманная крала,
Так, с каждым шагом, ведшим нас полого
Сквозь этот плотный воздух под уклон,
Обман мой таял, и росла тревога:
Как башнями по кругу обнесен
Монтереджоне на своей вершине,
Так здесь, венчая круговой заслон,
Маячили, подобные твердыне,
Ужасные гиганты, те, кого
Дий, в небе грохоча, страшит поныне.
Уже я различал у одного
Лицо и грудь, живот до бедер тучных
И руки книзу вдоль боков его.
Спасла Природа многих злополучных,
Подобные пресекши племена,
Чтоб Марс не мог иметь таких подручных;
И если нераскаянна она
В слонах или китах, тут есть раскрытый
Для взора смысл, и мера здесь видна;
Затем что там, где властен разум, слитый
Со злобной волей и громадой сил,
Там для людей нет никакой защиты.
Лицом он так широк и длинен был,
Как шишка в Риме близ Петрова храма;
И весь костяк размером подходил;
От кромки — ноги прикрывала яма —
До лба не дотянулись бы вовек
Три фриза, стоя друг на друге прямо;
От места, где обычно человек
Скрепляет плащ, до бедер — тридцать клалось
Больших пядей. «Rafel mai amech
Izabi almi», — яростно раздалось
Из диких уст, которым искони
Нежнее петь псалмы не полагалось.
И вождь ему: «Ты лучше в рог звени,
Безумный дух! В него — избыток злобы
И всякой страсти из себя гони!
О смутный дух, ощупай шею, чтобы
Найти ремень; тогда бы ты постиг,
Что рог подвешен у твоей утробы».
И мне: «Он сам явил свой истый лик;
То царь Немврод, чей замысел ужасный
Виной, что в мире не один язык.
Довольно с нас; беседы с ним напрасны:
Как он ничьих не понял бы речей,
Так никому слова его не ясны».
Мы продолжали путь, свернув левей,
И, отойдя на выстрел самострела,
Нашли другого, больше и дичей.
Чья сила великана одолела,
Не знаю; сзади — правая рука,
А левая вдоль переда висела
Прикрученной, и, оплетя бока,
Цепь завивалась, по открытой части,
От шеи вниз, до пятого витка.
«Гордец, насильем домогаясь власти,
С верховным Дием в бой вступил, и вот, —
Сказал мой вождь, — возмездье буйной страсти.
То Эфиальт; он был их верховод,
Когда богов гиганты устрашали;
Теперь он рук вовек не шевельнет».
И я сказал учителю: «Нельзя ли,
Чтобы, каков безмерный Бриарей,
Мои глаза на опыте узнали?»
И он ответил: «Здесь вблизи Антей;
Он говорит, он в пропасти порока
Опустит нас, свободный от цепей.
А тот, тобою названный, — далеко;
Как этот — скован, и такой, как он;
Лицо лишь разве более жестоко».
Так мощно башня искони времен
Не содрогалась от землетрясенья,
Как Эфиальт сотрясся, разъярен.
Я ждал, в испуге, смертного мгновенья,
И впрямь меня убил бы страх один,
Когда бы я не видел эти звенья.
Мы вновь пошли, и новый исполин,
Антей, возник из темной котловины,
От чресл до шеи ростом в пять аршин.
Как, если тает облачная мгла,
Взгляд начинает различать немного
Все то, что муть туманная крала,
Так, с каждым шагом, ведшим нас полого
Сквозь этот плотный воздух под уклон,
Обман мой таял, и росла тревога:
Как башнями по кругу обнесен
Монтереджоне на своей вершине,
Так здесь, венчая круговой заслон,
Маячили, подобные твердыне,
Ужасные гиганты, те, кого
Дий, в небе грохоча, страшит поныне.
Уже я различал у одного
Лицо и грудь, живот до бедер тучных
И руки книзу вдоль боков его.
Спасла Природа многих злополучных,
Подобные пресекши племена,
Чтоб Марс не мог иметь таких подручных;
И если нераскаянна она
В слонах или китах, тут есть раскрытый
Для взора смысл, и мера здесь видна;
Затем что там, где властен разум, слитый
Со злобной волей и громадой сил,
Там для людей нет никакой защиты.
Лицом он так широк и длинен был,
Как шишка в Риме близ Петрова храма;
И весь костяк размером подходил;
От кромки — ноги прикрывала яма —
До лба не дотянулись бы вовек
Три фриза, стоя друг на друге прямо;
От места, где обычно человек
Скрепляет плащ, до бедер — тридцать клалось
Больших пядей. «Rafel mai amech
Izabi almi», — яростно раздалось
Из диких уст, которым искони
Нежнее петь псалмы не полагалось.
И вождь ему: «Ты лучше в рог звени,
Безумный дух! В него — избыток злобы
И всякой страсти из себя гони!
О смутный дух, ощупай шею, чтобы
Найти ремень; тогда бы ты постиг,
Что рог подвешен у твоей утробы».
И мне: «Он сам явил свой истый лик;
То царь Немврод, чей замысел ужасный
Виной, что в мире не один язык.
Довольно с нас; беседы с ним напрасны:
Как он ничьих не понял бы речей,
Так никому слова его не ясны».
Мы продолжали путь, свернув левей,
И, отойдя на выстрел самострела,
Нашли другого, больше и дичей.
Чья сила великана одолела,
Не знаю; сзади — правая рука,
А левая вдоль переда висела
Прикрученной, и, оплетя бока,
Цепь завивалась, по открытой части,
От шеи вниз, до пятого витка.
«Гордец, насильем домогаясь власти,
С верховным Дием в бой вступил, и вот, —
Сказал мой вождь, — возмездье буйной страсти.
То Эфиальт; он был их верховод,
Когда богов гиганты устрашали;
Теперь он рук вовек не шевельнет».
И я сказал учителю: «Нельзя ли,
Чтобы, каков безмерный Бриарей,
Мои глаза на опыте узнали?»
И он ответил: «Здесь вблизи Антей;
Он говорит, он в пропасти порока
Опустит нас, свободный от цепей.
А тот, тобою названный, — далеко;
Как этот — скован, и такой, как он;
Лицо лишь разве более жестоко».
Так мощно башня искони времен
Не содрогалась от землетрясенья,
Как Эфиальт сотрясся, разъярен.
Я ждал, в испуге, смертного мгновенья,
И впрямь меня убил бы страх один,
Когда бы я не видел эти звенья.
Мы вновь пошли, и новый исполин,
Антей, возник из темной котловины,
От чресл до шеи ростом в пять аршин.
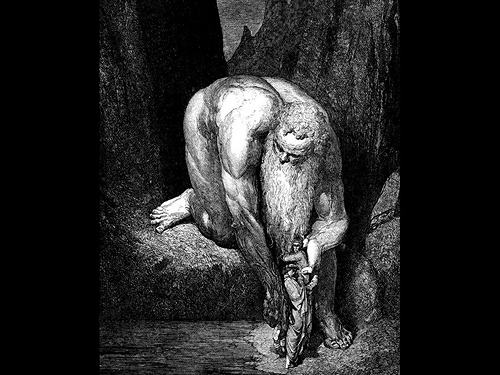 «О ты, что в дебрях роковой долины, —
Где Сципион был вознесен судьбой,
Рассеяв Ганнибаловы дружины, —
Не счел бы львов, растерзанных тобой,
Ты, о котором говорят: таков он,
Что, если б он вел братьев в горний бой,
Сынам Земли венец был уготован,
Спусти нас — и не хмурь надменный взгляд —
В глубины, где Коцит морозом скован.
Тифей и Титий далеко стоят;
Мой спутник дар тебе вручит бесценный;
Не корчи рот, нагнись; он будет рад
Тебя опять прославить во вселенной;
Он жив и долгий век себе сулит,
Когда не будет призван в свет блаженный».
Так молвил вождь; и вот гигант спешит
Принять его в простертые ладони,
Которых крепость испытал Алкид.
Вергилий, ощутив себя в их лоне,
Сказал: «Стань тут», — и, чтоб мой страх исчез,
Обвил меня рукой, надежней брони.
Как Гаризенда, если стать под свес,
Вершину словно клонит понемногу
Навстречу туче в высоте небес,
Так надо мной, взиравшим сквозь тревогу,
Навис Антей, и в этот миг я знал,
Что сам не эту выбрал бы дорогу.
Но он легко нас опустил в провал,
Где поглощен Иуда тьмой предельной
И Люцифер. И, разогнувшись, встал,
«О ты, что в дебрях роковой долины, —
Где Сципион был вознесен судьбой,
Рассеяв Ганнибаловы дружины, —
Не счел бы львов, растерзанных тобой,
Ты, о котором говорят: таков он,
Что, если б он вел братьев в горний бой,
Сынам Земли венец был уготован,
Спусти нас — и не хмурь надменный взгляд —
В глубины, где Коцит морозом скован.
Тифей и Титий далеко стоят;
Мой спутник дар тебе вручит бесценный;
Не корчи рот, нагнись; он будет рад
Тебя опять прославить во вселенной;
Он жив и долгий век себе сулит,
Когда не будет призван в свет блаженный».
Так молвил вождь; и вот гигант спешит
Принять его в простертые ладони,
Которых крепость испытал Алкид.
Вергилий, ощутив себя в их лоне,
Сказал: «Стань тут», — и, чтоб мой страх исчез,
Обвил меня рукой, надежней брони.
Как Гаризенда, если стать под свес,
Вершину словно клонит понемногу
Навстречу туче в высоте небес,
Так надо мной, взиравшим сквозь тревогу,
Навис Антей, и в этот миг я знал,
Что сам не эту выбрал бы дорогу.
Но он легко нас опустил в провал,
Где поглощен Иуда тьмой предельной
И Люцифер. И, разогнувшись, встал,
Взнесясь подобно мачте корабельной.
ПЕСНЬ ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ Когда б мой стих был хриплый и скрипучий, Как требует зловещее жерло, Куда спадают все другие кручи, Мне б это крепче выжать помогло Сок замысла; но здесь мой слог некстати, И речь вести мне будет тяжело; Ведь вовсе не из легких предприятий — Представить образ мирового дна; Тут не отделаешься «мамой-тятей». Но помощь Муз да будет мне дана, Как Амфиону, строившему Фивы, Чтоб в слове сущность выразить сполна. Жалчайший род, чей жребий несчастливый И молвить трудно, лучше б на земле Ты был овечьим стадом, нечестивый! Мы оказались в преисподней мгле, У ног гиганта, на равнине гладкой, И я дивился шедшей вверх скале, Как вдруг услышал крик: «Шагай с оглядкой! Ведь ты почти что на головы нам, Злосчастным братьям, наступаешь пяткой!» Я увидал, взглянув по сторонам, Что подо мною озеро, от стужи Подобное стеклу, а не волнам. В разгар зимы не облечен снаружи Таким покровом в Австрии Дунай, И дальний Танаис твердеет хуже; Когда бы Тамбернику невзначай Иль Пьетрапане дать сюда свалиться, У озера не хрустнул бы и край. И как лягушка выставить ловчится, Чтобы поквакать, рыльце из пруда, Когда ж ее страда и ночью снится, Так, вмерзши до таилища стыда И аисту под звук стуча зубами, Синели души грешных изо льда.
 Свое лицо они склоняли сами,
Свидетельствуя в облике таком
О стуже — ртом, о горести — глазами.
Взглянув окрест, я вновь поник челом
И увидал двоих, так сжатых рядом,
Что волосы их сбились в цельный ком.
«Вы, грудь о грудь окованные хладом, —
Сказал я, — кто вы?» Каждый шею взнес
И на меня оборотился взглядом.
И их глаза, набухшие от слез,
Излились влагой, и она застыла,
И веки им обледенил мороз.
Бревно с бревном скоба бы не скрепила
Столь прочно; и они, как два козла,
Боднулись лбами, — так их злость душила.
И кто-то молвил, не подняв чела,
От холода безухий: «Что такое?
Зачем ты в нас глядишь, как в зеркала?
Когда ты хочешь знать, кто эти двое:
Им завещал Альберто, их отец,
Бизенцский дол, наследье родовое.
Родные братья; из конца в конец
Обшарь хотя бы всю Каину, — гаже
Не вязнет в студне ни один мертвец:
Ни тот, которому, на зоркой страже,
Артур пронзил копьем и грудь и тень,
Ни сам Фокачча, ни вот этот даже,
Что головой мне застит скудный день
И прозывался Сассоль Маскерони;
В Тоскане слышали про эту тень.
А я, — чтоб все явить, как на ладони, —
Был Камичон де’Пацци, и я жду
Карлино для затменья беззаконий».
Потом я видел сотни лиц во льду,
Подобных песьим мордам; и доныне
Страх у меня к замерзшему пруду.
И вот, пока мы шли к той середине,
Где сходится всех тяжестей поток,
И я дрожал в темнеющей пустыне, —
Была то воля, случай или рок,
Не знаю, — только, меж голов ступая,
Я одному ногой ушиб висок.
«Ты что дерешься? — вскрикнул дух, стеная. —
Ведь не пришел же ты меня толкнуть,
За Монтаперти лишний раз отмщая?»
И я: «Учитель, подожди чуть-чуть;
Пусть он меня избавит от сомнений;
Потом ускорим, сколько хочешь, путь».
Вожатый стал; и я промолвил тени,
Которая ругалась всем дурным:
«Кто ты, к другим столь злобный средь мучений?»
«А сам ты кто, ступающий другим
На лица в Антеноре, — он ответил, —
Больней, чем если бы ты был живым?»
«Я жив, и ты бы утешенье встретил, —
Был мой ответ, — когда б из рода в род
В моих созвучьях я тебя отметил».
И он сказал: «Хочу наоборот.
Отстань, уйди; хитрец ты плоховатый:
Нашел, чем льстить средь ледяных болот!»
Вцепясь ему в затылок волосатый,
Я так сказал: «Себя ты назовешь
Иль без волос останешься, проклятый!»
И он в ответ: «Раз ты мне космы рвешь,
Я не скажу, не обнаружу, кто я,
Хотя б меня ты изувечил сплошь».
Уже, рукой в его загривке роя,
Я не одну ему повыдрал прядь,
А он глядел все книзу, громко воя.
Вдруг кто-то крикнул: «Бокка, брось орать!
И без того уж челюстью грохочешь.
Разлаялся! Кой черт с тобой опять?»
«Теперь молчи, — сказал я, — если хочешь,
Предатель гнусный! В мире свой позор
Через меня навеки ты упрочишь».
«Ступай, — сказал он, — врать тебе простор.
Но твой рассказ пусть в точности означит
И этого, что на язык так скор.
Он по французским денежкам здесь плачет.
«Дуэра, — ты расскажешь, — водворен
Там, где в прохладце грешный люд маячит»
А если спросят, кто еще, то вон —
Здесь Беккерия, ближе братьи прочей,
Которому нашейник рассечен;
Там Джанни Сольданьер потупил очи,
И Ганеллон, и Тебальделло с ним,
Тот, что Фаэнцу отомкнул средь ночи».
Мы отошли, и тут глазам моим
Предстали двое, в яме леденея;
Один, как шапкой, был накрыт другим.
Как хлеб грызет голодный, стервенея,
Так верхний зубы нижнему вонзал
Туда, где мозг смыкаются и шея.
И сам Тидей не яростней глодал
Лоб Меналиппа, в час перед кончиной,
Чем этот призрак череп пожирал.
«Ты, одержимый злобою звериной
К тому, кого ты истерзал, жуя,
Скажи, — промолвил я, — что ей причиной.
И если праведна вражда твоя, —
Узнав, кто вы и чем ты так обижен,
Тебе на свете послужу и я,
Пока не станет мой язык недвижен».
Свое лицо они склоняли сами,
Свидетельствуя в облике таком
О стуже — ртом, о горести — глазами.
Взглянув окрест, я вновь поник челом
И увидал двоих, так сжатых рядом,
Что волосы их сбились в цельный ком.
«Вы, грудь о грудь окованные хладом, —
Сказал я, — кто вы?» Каждый шею взнес
И на меня оборотился взглядом.
И их глаза, набухшие от слез,
Излились влагой, и она застыла,
И веки им обледенил мороз.
Бревно с бревном скоба бы не скрепила
Столь прочно; и они, как два козла,
Боднулись лбами, — так их злость душила.
И кто-то молвил, не подняв чела,
От холода безухий: «Что такое?
Зачем ты в нас глядишь, как в зеркала?
Когда ты хочешь знать, кто эти двое:
Им завещал Альберто, их отец,
Бизенцский дол, наследье родовое.
Родные братья; из конца в конец
Обшарь хотя бы всю Каину, — гаже
Не вязнет в студне ни один мертвец:
Ни тот, которому, на зоркой страже,
Артур пронзил копьем и грудь и тень,
Ни сам Фокачча, ни вот этот даже,
Что головой мне застит скудный день
И прозывался Сассоль Маскерони;
В Тоскане слышали про эту тень.
А я, — чтоб все явить, как на ладони, —
Был Камичон де’Пацци, и я жду
Карлино для затменья беззаконий».
Потом я видел сотни лиц во льду,
Подобных песьим мордам; и доныне
Страх у меня к замерзшему пруду.
И вот, пока мы шли к той середине,
Где сходится всех тяжестей поток,
И я дрожал в темнеющей пустыне, —
Была то воля, случай или рок,
Не знаю, — только, меж голов ступая,
Я одному ногой ушиб висок.
«Ты что дерешься? — вскрикнул дух, стеная. —
Ведь не пришел же ты меня толкнуть,
За Монтаперти лишний раз отмщая?»
И я: «Учитель, подожди чуть-чуть;
Пусть он меня избавит от сомнений;
Потом ускорим, сколько хочешь, путь».
Вожатый стал; и я промолвил тени,
Которая ругалась всем дурным:
«Кто ты, к другим столь злобный средь мучений?»
«А сам ты кто, ступающий другим
На лица в Антеноре, — он ответил, —
Больней, чем если бы ты был живым?»
«Я жив, и ты бы утешенье встретил, —
Был мой ответ, — когда б из рода в род
В моих созвучьях я тебя отметил».
И он сказал: «Хочу наоборот.
Отстань, уйди; хитрец ты плоховатый:
Нашел, чем льстить средь ледяных болот!»
Вцепясь ему в затылок волосатый,
Я так сказал: «Себя ты назовешь
Иль без волос останешься, проклятый!»
И он в ответ: «Раз ты мне космы рвешь,
Я не скажу, не обнаружу, кто я,
Хотя б меня ты изувечил сплошь».
Уже, рукой в его загривке роя,
Я не одну ему повыдрал прядь,
А он глядел все книзу, громко воя.
Вдруг кто-то крикнул: «Бокка, брось орать!
И без того уж челюстью грохочешь.
Разлаялся! Кой черт с тобой опять?»
«Теперь молчи, — сказал я, — если хочешь,
Предатель гнусный! В мире свой позор
Через меня навеки ты упрочишь».
«Ступай, — сказал он, — врать тебе простор.
Но твой рассказ пусть в точности означит
И этого, что на язык так скор.
Он по французским денежкам здесь плачет.
«Дуэра, — ты расскажешь, — водворен
Там, где в прохладце грешный люд маячит»
А если спросят, кто еще, то вон —
Здесь Беккерия, ближе братьи прочей,
Которому нашейник рассечен;
Там Джанни Сольданьер потупил очи,
И Ганеллон, и Тебальделло с ним,
Тот, что Фаэнцу отомкнул средь ночи».
Мы отошли, и тут глазам моим
Предстали двое, в яме леденея;
Один, как шапкой, был накрыт другим.
Как хлеб грызет голодный, стервенея,
Так верхний зубы нижнему вонзал
Туда, где мозг смыкаются и шея.
И сам Тидей не яростней глодал
Лоб Меналиппа, в час перед кончиной,
Чем этот призрак череп пожирал.
«Ты, одержимый злобою звериной
К тому, кого ты истерзал, жуя,
Скажи, — промолвил я, — что ей причиной.
И если праведна вражда твоя, —
Узнав, кто вы и чем ты так обижен,
Тебе на свете послужу и я,
Пока не станет мой язык недвижен».
ПЕСНЬ ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ Подняв уста от мерзостного брашна, Он вытер свой окровавленный рот О волосы, в которых грыз так страшно, Потом сказал: «Отчаянных невзгод Ты в скорбном сердце обновляешь бремя; Не только речь, и мысль о них гнетет. Но если слово прорастет, как семя, Хулой врагу, которого гложу, Я рад вещать и плакать в то же время. Не знаю, кто ты, как прошел межу Печальных стран, откуда нет возврата, Но ты тосканец, как на слух сужу. Я графом Уголино был когда-то, Архиепископом Руджери — он; Недаром здесь мы ближе, чем два брата. Что я злодейски был им обойден, Ему доверясь, заточен как пленник, Потом убит, — известно испокон; Но ни один не ведал современник Про то, как смерть моя была страшна. Внемли и знай, что сделал мой изменник.
 В отверстье клетки — с той поры она
Голодной Башней называться стала,
И многим в ней неволя суждена —
Я новых лун перевидал немало,
Когда зловещий сон меня потряс,
Грядущего разверзши покрывало.
Он, с ловчими, — так снилось мне в тот час, —
Гнал волка и волчат от их стоянки
К холму, что Лукку заслонил от нас;
Усердных псиц задорил дух приманки,
А головными впереди неслись
Гваланди, и Сисмонди, и Ланфранки.
Отцу и детям было не спастись:
Охотникам досталась их потреба,
И в ребра зубы острые впились.
Очнувшись раньше, чем зарделось небо,
Я услыхал, как, мучимые сном,
Мои четыре сына просят хлеба.
Когда без слез ты слушаешь о том,
Что этим стоном сердцу возвещалось, —
Ты плакал ли когда-нибудь о чем?
Они проснулись; время приближалось,
Когда тюремщик пищу подает,
И мысль у всех недавним сном терзалась.
И вдруг я слышу — забивают вход
Ужасной башни; я глядел, застылый,
На сыновей; я чувствовал, что вот —
Я каменею, и стонать нет силы;
Стонали дети; Ансельмуччо мой
Спросил: «Отец, что ты так смотришь, милый?»
Но я не плакал; молча, как немой,
Провел весь день и ночь, пока денница
Не вышла с новым солнцем в мир земной.
Когда луча ничтожная частица
Проникла в скорбный склеп и я открыл,
Каков я сам, взглянув на эти лица, —
Себе я пальцы в муке укусил.
Им думалось, что это голод нудит
Меня кусать; и каждый, встав, просил:
«Отец, ешь нас, нам это легче будет;
Ты дал нам эти жалкие тела, —
Возьми их сам; так справедливость судит».
Но я утих, чтоб им не делать зла.
В безмолвье день, за ним другой промчался.
Зачем, земля, ты нас не пожрала!
Настал четвертый. Гаддо зашатался
И бросился к моим ногам, стеня:
«Отец, да помоги же!» — и скончался.
И я, как ты здесь смотришь на меня,
Смотрел, как трое пали Друг за другом
От пятого и до шестого дня.
Уже слепой, я щупал их с испугом,
Два дня звал мертвых с воплями тоски;
Но злей, чем горе, голод был недугом».
Тут он умолк и вновь, скосив зрачки,
Вцепился в жалкий череп, в кость вонзая
Как у собаки крепкие клыки.
О Пиза, стыд пленительного края,
Где раздается si! Коль медлит суд
Твоих соседей, — пусть, тебя карая,
Капрара и Горгона с мест сойдут
И устье Арно заградят заставой,
Чтоб утонул весь твой бесчестный люд!
Как ни был бы ославлен темной славой
Граф Уголлино, замки уступив, —
За что детей вести на крест неправый!
Невинны были, о исчадье Фив,
И Угуччоне с молодым Бригатой,
И те, кого я назвал, в песнь вложив.
Мы шли вперед равниною покатой
Туда, где, лежа навзничь, грешный род
Терзается, жестоким льдом зажатый.
Там самый плач им плакать не дает,
И боль, прорвать не в силах покрывала,
К сугубой муке снова внутрь идет;
Затем что слезы с самого начала,
В подбровной накопляясь глубине,
Твердеют, как хрустальные забрала.
И в этот час, хоть и казалось мне,
Что все мое лицо, и лоб, и веки
От холода бесчувственны вполне,
Я ощутил как будто ветер некий.
«Учитель, — я спросил, — чем он рожден?
Ведь всякий пар угашен здесь навеки».
И вождь: «Ты вскоре будешь приведен
В то место, где, узрев ответ воочью,
Постигнешь сам, чем воздух возмущен».
Один из тех, кто скован льдом и ночью,
Вскричал: «О души, злые до того,
Что вас послали прямо к средоточью,
Снимите гнет со взгляда моего,
Чтоб скорбь излилась хоть на миг слезою,
Пока мороз не затянул его».
И я в ответ: «Тебе я взор открою,
Но назовись; и если я солгал,
Пусть окажусь под ледяной корою!»
«Я — инок Альбериго, — он сказал, —
Тот, что плоды растил на злое дело
И здесь на финик смокву променял».
«Ты разве умер?» — с уст моих слетело.
И он в ответ: «Мне ведать не дано,
Как здравствует мое земное тело.
Здесь, в Толомее, так заведено,
Что часто души, раньше, чем сразила
Их Атропос, уже летят на дно.
И чтоб тебе еще приятней было
Снять у меня стеклянный полог с глаз,
Знай, что, едва предательство свершила,
Как я, душа, вселяется тотчас
Ей в тело бес, и в нем он остается,
Доколе срок для плоти не угас.
Душа катится вниз, на дно колодца.
Еще, быть может, к мертвым не причли
И ту, что там за мной о г стужи жмется.
Ты это должен знать, раз ты с земли:
Он звался Бранка д’Орья; наша братья
С ним свыклась, годы вместе провели».
«Что это правда, мало вероятья, —
Сказал я. — Бранка д’Орья жив, здоров,
Он ест, и пьет, и спит, и носит платья».
И дух в ответ: «В смолой кипящий ров
Еще Микеле Цанке не направил,
С землею разлучась, своих шагов,
Как этот беса во плоти оставил
Взамен себя, с сородичем одним,
С которым вместе он себя прославил.
Но руку протяни к глазам моим,
Открой мне их!» И я рукой не двинул,
И было доблестью быть подлым с ним.
О генуэзцы, вы, в чьем сердце минул
Последний стыд и все осквернено,
Зачем ваш род еще с земли не сгинул?
С гнуснейшим из романцев заодно
Я встретил одного из вас, который
Душой в Коците погружен давно,
А телом здесь обманывает взоры.
В отверстье клетки — с той поры она
Голодной Башней называться стала,
И многим в ней неволя суждена —
Я новых лун перевидал немало,
Когда зловещий сон меня потряс,
Грядущего разверзши покрывало.
Он, с ловчими, — так снилось мне в тот час, —
Гнал волка и волчат от их стоянки
К холму, что Лукку заслонил от нас;
Усердных псиц задорил дух приманки,
А головными впереди неслись
Гваланди, и Сисмонди, и Ланфранки.
Отцу и детям было не спастись:
Охотникам досталась их потреба,
И в ребра зубы острые впились.
Очнувшись раньше, чем зарделось небо,
Я услыхал, как, мучимые сном,
Мои четыре сына просят хлеба.
Когда без слез ты слушаешь о том,
Что этим стоном сердцу возвещалось, —
Ты плакал ли когда-нибудь о чем?
Они проснулись; время приближалось,
Когда тюремщик пищу подает,
И мысль у всех недавним сном терзалась.
И вдруг я слышу — забивают вход
Ужасной башни; я глядел, застылый,
На сыновей; я чувствовал, что вот —
Я каменею, и стонать нет силы;
Стонали дети; Ансельмуччо мой
Спросил: «Отец, что ты так смотришь, милый?»
Но я не плакал; молча, как немой,
Провел весь день и ночь, пока денница
Не вышла с новым солнцем в мир земной.
Когда луча ничтожная частица
Проникла в скорбный склеп и я открыл,
Каков я сам, взглянув на эти лица, —
Себе я пальцы в муке укусил.
Им думалось, что это голод нудит
Меня кусать; и каждый, встав, просил:
«Отец, ешь нас, нам это легче будет;
Ты дал нам эти жалкие тела, —
Возьми их сам; так справедливость судит».
Но я утих, чтоб им не делать зла.
В безмолвье день, за ним другой промчался.
Зачем, земля, ты нас не пожрала!
Настал четвертый. Гаддо зашатался
И бросился к моим ногам, стеня:
«Отец, да помоги же!» — и скончался.
И я, как ты здесь смотришь на меня,
Смотрел, как трое пали Друг за другом
От пятого и до шестого дня.
Уже слепой, я щупал их с испугом,
Два дня звал мертвых с воплями тоски;
Но злей, чем горе, голод был недугом».
Тут он умолк и вновь, скосив зрачки,
Вцепился в жалкий череп, в кость вонзая
Как у собаки крепкие клыки.
О Пиза, стыд пленительного края,
Где раздается si! Коль медлит суд
Твоих соседей, — пусть, тебя карая,
Капрара и Горгона с мест сойдут
И устье Арно заградят заставой,
Чтоб утонул весь твой бесчестный люд!
Как ни был бы ославлен темной славой
Граф Уголлино, замки уступив, —
За что детей вести на крест неправый!
Невинны были, о исчадье Фив,
И Угуччоне с молодым Бригатой,
И те, кого я назвал, в песнь вложив.
Мы шли вперед равниною покатой
Туда, где, лежа навзничь, грешный род
Терзается, жестоким льдом зажатый.
Там самый плач им плакать не дает,
И боль, прорвать не в силах покрывала,
К сугубой муке снова внутрь идет;
Затем что слезы с самого начала,
В подбровной накопляясь глубине,
Твердеют, как хрустальные забрала.
И в этот час, хоть и казалось мне,
Что все мое лицо, и лоб, и веки
От холода бесчувственны вполне,
Я ощутил как будто ветер некий.
«Учитель, — я спросил, — чем он рожден?
Ведь всякий пар угашен здесь навеки».
И вождь: «Ты вскоре будешь приведен
В то место, где, узрев ответ воочью,
Постигнешь сам, чем воздух возмущен».
Один из тех, кто скован льдом и ночью,
Вскричал: «О души, злые до того,
Что вас послали прямо к средоточью,
Снимите гнет со взгляда моего,
Чтоб скорбь излилась хоть на миг слезою,
Пока мороз не затянул его».
И я в ответ: «Тебе я взор открою,
Но назовись; и если я солгал,
Пусть окажусь под ледяной корою!»
«Я — инок Альбериго, — он сказал, —
Тот, что плоды растил на злое дело
И здесь на финик смокву променял».
«Ты разве умер?» — с уст моих слетело.
И он в ответ: «Мне ведать не дано,
Как здравствует мое земное тело.
Здесь, в Толомее, так заведено,
Что часто души, раньше, чем сразила
Их Атропос, уже летят на дно.
И чтоб тебе еще приятней было
Снять у меня стеклянный полог с глаз,
Знай, что, едва предательство свершила,
Как я, душа, вселяется тотчас
Ей в тело бес, и в нем он остается,
Доколе срок для плоти не угас.
Душа катится вниз, на дно колодца.
Еще, быть может, к мертвым не причли
И ту, что там за мной о г стужи жмется.
Ты это должен знать, раз ты с земли:
Он звался Бранка д’Орья; наша братья
С ним свыклась, годы вместе провели».
«Что это правда, мало вероятья, —
Сказал я. — Бранка д’Орья жив, здоров,
Он ест, и пьет, и спит, и носит платья».
И дух в ответ: «В смолой кипящий ров
Еще Микеле Цанке не направил,
С землею разлучась, своих шагов,
Как этот беса во плоти оставил
Взамен себя, с сородичем одним,
С которым вместе он себя прославил.
Но руку протяни к глазам моим,
Открой мне их!» И я рукой не двинул,
И было доблестью быть подлым с ним.
О генуэзцы, вы, в чьем сердце минул
Последний стыд и все осквернено,
Зачем ваш род еще с земли не сгинул?
С гнуснейшим из романцев заодно
Я встретил одного из вас, который
Душой в Коците погружен давно,
А телом здесь обманывает взоры.
ПЕСНЬ ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Vexma regis prodeunt inferni Навстречу нам, — сказал учитель. — Вот, Смотри, уже он виден в этой черни». Когда на нашем небе ночь встает Или в тумане меркнет ясность взгляда, Так мельница вдали крылами бьет, Как здесь во мгле встававшая громада. Я хоронился за вождем, как мог, Чтобы от ветра мне была пощада. Мы были там, — мне страшно этих строк, — Где тени в недрах ледяного слоя Сквозят глубоко, как в стекле сучок. Одни лежат; другие вмерзли стоя, Кто вверх, кто книзу головой застыв; А кто — дугой, лицо ступнями кроя. В безмолвии дальнейший путь свершив И пожелав, чтобы мой взгляд окинул Того, кто был когда-то так красив, Учитель мой вперед меня подвинул, Сказав: «Вот Дит, вот мы пришли туда, Где надлежит, чтоб ты боязнь отринул». Как холоден и слаб я стал тогда, Не спрашивай, читатель; речь — убоже; Писать о том не стоит и труда. Я не был мертв, и жив я не был тоже; А рассудить ты можешь и один: Ни тем, ни этим быть — с чем это схоже. Мучительной державы властелин Грудь изо льда вздымал наполовину; И мне по росту ближе исполин,
 Чем руки Люцифера исполину;
По этой части ты бы сам расчел,
Каков он весь, ушедший телом в льдину.
О, если вежды он к Творцу возвел
И был так дивен, как теперь ужасен,
Он, истинно, первопричина зол!
И я от изумленья стал безгласен,
Когда увидел три лица на нем;
Одно — над грудью; цвет его был красен;
А над одним и над другим плечом
Два смежных с этим в стороны грозило,
Смыкаясь на затылке под хохлом.
Лицо направо — бело-желтым было;
Окраска же у левого была,
Как у пришедших с водопадов Нила.
Росло под каждым два больших крыла,
Как должно птице, столь великой в мире;
Таких ветрил и мачта не несла.
Без перьев, вид у них был нетопырий;
Он ими веял, движа рамена,
И гнал три ветра вдоль по темной шири,
Струи Коцита леденя до дна.
Шесть глаз точило слезы, и стекала
Из трех пастей кровавая слюна.
Они все три терзали, как трепала,
По грешнику; так, с каждой стороны
По одному, в них трое изнывало.
Переднему не зубы так страшны,
Как ногти были, все одну и ту же
Сдирающие кожу со спины.
«Тот, наверху, страдающий всех хуже, —
Промолвил вождь, — Иуда Искарьот;
Внутрь головой и пятками наруже.
А эти — видишь — головой вперед:
Вот Брут, свисающий из черной пасти;
Он корчится — и губ не разомкнет!
Напротив — Кассий, телом коренастей.
Но наступает ночь; пора и в путь;
Ты видел все, что было в нашей власти».
Велев себя вкруг шеи обомкнуть
И выбрав миг и место, мой вожатый,
Как только крылья обнажили грудь,
Приблизился, вцепился в стан косматый
И стал спускаться вниз, с клока на клок,
Меж корок льда и грудью волосатой.
Когда мы пробирались там, где бок,
Загнув к бедру, дает уклон пологий,
Вождь, тяжело дыша, с усильем лег
Челом туда, где прежде были ноги,
И стал по шерсти подыматься ввысь,
Я думал — вспять, по той же вновь дороге.
Учитель молвил: «Крепче ухватись, —
И он дышал, как человек усталый. —
Вот путь, чтоб нам из бездны зла спастись».
Он в толще скал проник сквозь отступ малый.
Помог мне сесть на край, потом ко мне
Уверенно перешагнул на скалы.
Я ждал, глаза подъемля к Сатане,
Что он такой, как я его покинул,
А он торчал ногами к вышине.
И что за трепет на меня нахлынул,
Пусть судят те, кто, слыша мой рассказ,
Не угадал, какой рубеж я минул.
«Встань, — вождь промолвил. — Ожидает нас
Немалый путь, и нелегка дорога,
А солнце входит во второй свой час».
Мы были с ним не посреди чертога;
То был, верней, естественный подвал,
С неровным дном, и свет мерцал убого.
«Учитель, — молвил я, как только встал, —
Пока мы здесь, на глубине безвестной,
Скажи, чтоб я в сомненьях не блуждал:
Где лед? Зачем вот этот в яме тесной
Торчит стремглав? И как уже пройден
От ночи к утру солнцем путь небесный?»
«Ты думал — мы, как прежде, — молвил он, —
За средоточьем, там, где я вцепился
В руно червя, которым мир пронзен?
Спускаясь вниз, ты там и находился;
Но я в той точке сделал поворот,
Где гнет всех грузов отовсюду слился;
И над тобой теперь небесный свод,
Обратный своду, что взнесен навеки
Над сушей и под сенью чьих высот
Угасла жизнь в безгрешном Человеке;
Тебя держащий каменный настил
Есть малый круг, обратный лик Джудекки.
Тут — день встает, там — вечер наступил;
А этот вот, чья лестница мохната,
Все так же воткнут, как и прежде был.
Сюда с небес вонзился он когда-то;
Земля, что раньше наверху цвела,
Застлалась морем, ужасом объята,
И в наше полушарье перешла;
И здесь, быть может, вверх горой скакнула,
И он остался в пустоте дупла».
Там место есть, вдали от Вельзевула,
Насколько стены склепа вдаль ведут;
Оно приметно только из-за гула
Ручья, который вытекает тут,
Пробившись через камень, им точимый;
Он вьется сверху, и наклон не крут.
Мой вождь и я на этот путь незримый
Ступили, чтоб вернуться в ясный свет,
И двигались все вверх, неутомимы,
Он — впереди, а я ему вослед,
Пока моих очей не озарила
Краса небес в зияющий просвет;
И здесь мы вышли вновь узреть светила.
Чем руки Люцифера исполину;
По этой части ты бы сам расчел,
Каков он весь, ушедший телом в льдину.
О, если вежды он к Творцу возвел
И был так дивен, как теперь ужасен,
Он, истинно, первопричина зол!
И я от изумленья стал безгласен,
Когда увидел три лица на нем;
Одно — над грудью; цвет его был красен;
А над одним и над другим плечом
Два смежных с этим в стороны грозило,
Смыкаясь на затылке под хохлом.
Лицо направо — бело-желтым было;
Окраска же у левого была,
Как у пришедших с водопадов Нила.
Росло под каждым два больших крыла,
Как должно птице, столь великой в мире;
Таких ветрил и мачта не несла.
Без перьев, вид у них был нетопырий;
Он ими веял, движа рамена,
И гнал три ветра вдоль по темной шири,
Струи Коцита леденя до дна.
Шесть глаз точило слезы, и стекала
Из трех пастей кровавая слюна.
Они все три терзали, как трепала,
По грешнику; так, с каждой стороны
По одному, в них трое изнывало.
Переднему не зубы так страшны,
Как ногти были, все одну и ту же
Сдирающие кожу со спины.
«Тот, наверху, страдающий всех хуже, —
Промолвил вождь, — Иуда Искарьот;
Внутрь головой и пятками наруже.
А эти — видишь — головой вперед:
Вот Брут, свисающий из черной пасти;
Он корчится — и губ не разомкнет!
Напротив — Кассий, телом коренастей.
Но наступает ночь; пора и в путь;
Ты видел все, что было в нашей власти».
Велев себя вкруг шеи обомкнуть
И выбрав миг и место, мой вожатый,
Как только крылья обнажили грудь,
Приблизился, вцепился в стан косматый
И стал спускаться вниз, с клока на клок,
Меж корок льда и грудью волосатой.
Когда мы пробирались там, где бок,
Загнув к бедру, дает уклон пологий,
Вождь, тяжело дыша, с усильем лег
Челом туда, где прежде были ноги,
И стал по шерсти подыматься ввысь,
Я думал — вспять, по той же вновь дороге.
Учитель молвил: «Крепче ухватись, —
И он дышал, как человек усталый. —
Вот путь, чтоб нам из бездны зла спастись».
Он в толще скал проник сквозь отступ малый.
Помог мне сесть на край, потом ко мне
Уверенно перешагнул на скалы.
Я ждал, глаза подъемля к Сатане,
Что он такой, как я его покинул,
А он торчал ногами к вышине.
И что за трепет на меня нахлынул,
Пусть судят те, кто, слыша мой рассказ,
Не угадал, какой рубеж я минул.
«Встань, — вождь промолвил. — Ожидает нас
Немалый путь, и нелегка дорога,
А солнце входит во второй свой час».
Мы были с ним не посреди чертога;
То был, верней, естественный подвал,
С неровным дном, и свет мерцал убого.
«Учитель, — молвил я, как только встал, —
Пока мы здесь, на глубине безвестной,
Скажи, чтоб я в сомненьях не блуждал:
Где лед? Зачем вот этот в яме тесной
Торчит стремглав? И как уже пройден
От ночи к утру солнцем путь небесный?»
«Ты думал — мы, как прежде, — молвил он, —
За средоточьем, там, где я вцепился
В руно червя, которым мир пронзен?
Спускаясь вниз, ты там и находился;
Но я в той точке сделал поворот,
Где гнет всех грузов отовсюду слился;
И над тобой теперь небесный свод,
Обратный своду, что взнесен навеки
Над сушей и под сенью чьих высот
Угасла жизнь в безгрешном Человеке;
Тебя держащий каменный настил
Есть малый круг, обратный лик Джудекки.
Тут — день встает, там — вечер наступил;
А этот вот, чья лестница мохната,
Все так же воткнут, как и прежде был.
Сюда с небес вонзился он когда-то;
Земля, что раньше наверху цвела,
Застлалась морем, ужасом объята,
И в наше полушарье перешла;
И здесь, быть может, вверх горой скакнула,
И он остался в пустоте дупла».
Там место есть, вдали от Вельзевула,
Насколько стены склепа вдаль ведут;
Оно приметно только из-за гула
Ручья, который вытекает тут,
Пробившись через камень, им точимый;
Он вьется сверху, и наклон не крут.
Мой вождь и я на этот путь незримый
Ступили, чтоб вернуться в ясный свет,
И двигались все вверх, неутомимы,
Он — впереди, а я ему вослед,
Пока моих очей не озарила
Краса небес в зияющий просвет;
И здесь мы вышли вновь узреть светила.
Разгром Древнерусского государства произошел в ходе Западного (кипчакского, половецкого) похода монголов, в котором конные тумены внуков Чингис-хана дошли до Центральной Европы.
После разведывательного похода, окончившегося битвой на Калке и поражением в Волжской Булгарии, монголы главные свои силы бросили на завоевание Южного Китая. А в 1235 году их курултай, состоявшийся на берегу реки Онон (в районе современного Нерчинска) принял решение во исполнение воли умершего Чингиз-хана организовать большой поход на запад. Чингиз завещал владеть этим регионом (среднеазиатский Хорезм, Половецкая Степь, Северный Кавказ, Крым, Русь) своему сыну Джучи. Но перед своей смертью Джучи владел лишь Хорезмом и восточной частью Степи. Сын Джучи и внук Чингиза — Бату — был призван войти во владение отведенным ему уделом, большую часть которого надо было еще завоевать. Командовать его войсками был назначен лучший полководец кочевнической империи — Субэдэй.
Первой на пути монгольского похода стояла Волжская Булгария. Там степняков давно ждали, к их возвращению готовились — замирялись с соседями, укрепляли городские стены, рыли рвы, насыпали валы… Все оказалось напрасным — удар конных монгольских масс оказался столь мощен, что система обороны, несмотря на отчаянное сопротивление булгар и их союзников, рухнула буквально в одночасье.
В то же самое время монгольские тумены приводили к покорности кочевников нижней Волги. Часть из них влилась в их войско, а другая часть половцев ушла на запад, в Венгрию. От Волги Бату повернул на Северо-Восточную Русь. Первый удар приняла на себя граничившая с Диким Полем Рязань. Открытая битва с монголами защитников княжества закончилась трагически: «Многая князи месныя и воеводы крепкыя, и воинство: удалцы и резвецы резанския, вси равно умроша и едину чашу смертную пиша, ни един от них возратися вспять: вси вкупе мертвии лежаша». Китайские мастера соорудили из подручных материалов метательные орудия, и Рязань подверглась непрерывному обстрелу камнеметами и огненными припасами в течении 5 дней. На шестой день начался решительный штурм города — все его защитники и почти все население были перебиты, а город уничтожен. После такого разгрома Рязань так и не возродилась (современная Рязань была отстроена совсем на другом месте). От Рязани монголы двинулись вверх по Оке — к Коломне. Здесь им дорогу заступило новое русское — владимирское — войско. Сеча вновь была упорной и кровавой, но вновь окончилась тем, что под коломенскими стенами полегли практически все русские дружинники и ополченцы.
Следующая монгольская жертва, Москва, держалась пять дней, после чего была дотла разорена, а «люди избиша от старець и до младеньць».
Настала очередь главных городов княжества — Владимира и Суздаля. Их участь была столь же трагичной, как и у всех русских городов во время нашествия. Когда монголы ворвались во Владимир сквозь проломы и сломили сопротивление на улицах города, люди попрятались в церквях — захватчики их подожгли… Владимирский князь в это время собирал полки на реке Сити. Но монгольский отряд сумел застать его рать врасплох и полностью ее уничтожил (отрубленная голова князя была преподнесена в дар Бату).
Больше крупных военных сил, способных выйти в поле, на северо-востоке Руси не было, и монголы «облавой» пошли дальше, не пропуская почти ни одного города. Семь недель отряду под личным командованием Бату сопротивлялся Козельск. Но после подхода главных сил монголов пал и он (итог героической обороны — уничтожение всего населения поголовно, от мала до велика). Следующий год монголы продолжали «замирять» кочевников в Диком Поле, а в 1240 году снова направили главные свои силы на Русь. Нападению подверглись южные княжества Древнерусского государства. На этот раз в составе монгольской армии было много и немонголов: «Во всех завоеванных царствах они без промедления убивают князей и вельмож, которые внушают опасения, что когда-нибудь могут оказать какое-либо сопротивление. Годных для битвы воинов и поселян они, вооруживши, посылают против воли в бой вперед себя».
Начиная с взятия «матери городов Русских» Киева, сценарий предыдущего года повторился (за исключением полевых сражений, на которые русские уже не отваживались) во всех деталях: отказ на предложение сдаться — примерно неделя на непрерывную работу камнеметательных машин с целью пролома стены — штурм, бои на городских улицах и поджог церквей, где укрылись последние защитники с семьями — разграбление и почти поголовное «обезлюживание» города — прочесывание окрестных территорий конной «облавой» и разорение менее крупных городов и сел.
Предполагают, что с разгромом Южной Руси в руководстве монгольским походом обозначились разногласия по поводу целесообразности его продолжения. Во всяком случае, тумены его двоюродных братьев Гуюка и Мунке вернулись в Монголию, и поход в Центральную Европу Бату совершил один.
О целях европейского похода можно только догадываться. Окрыленный победами над половцами и русскими, Бату мог строить самые грандиозные планы. Но, вероятно, несогласные с ним чингизиды были правы — границы империи удалось закрепить лишь до Карпат (да и то ненадолго), а поход дальше на запад оказался «лишним», бессмысленным даже в ближайшей перспективе.
100-тысячная армия Бату вторглась в Венгрию и Польшу. Та ее часть, которая пыталась завоевать Польшу, разгромила тамошние дружины и ополчения в полевых сражениях, захватила Краков и несколько других городов, но устроить после этого «облаву» не удалось — от Вроцлава монголов отогнали, после чего они ушли к Бату в Венгрию.
Венгрия не имела сил, достаточных для отражения подобного нашествия. Собранная королем армия погибла в первом же сражении:
«Во втором часу дня все многочисленное татарское полчище словно в хороводе окружило весь лагерь венгров. Одни, натянув луки, стали со всех сторон пускать стрелы, другие спешили поджечь лагерь по кругу. А венгры, видя, что они отовсюду окружены вражескими отрядами, лишились рассудка и благоразумия и уже совершенно не понимали, ни как развернуть свои порядки, ни поднять всех на сражение, но, оглушенные столь великим несчастьем, метались по кругу, как овцы в загоне… Несчастная толпа венгров, отчаявшись найти спасительное решение, не представляла, что делать… король и князья, бросив знамена, обращаются в бегство… по всему пути валялись тела несчастных… жалкие остатки войска, которыми еще не насытился татарский меч, были прижаты к какому-то болоту, и другой дороги для выхода не оказалось; под напором татар туда попало множество венгров и почти все они были поглощены водой и илом и погибли».
Татарские отряды, дошедшие до побережья Адриатического моря потеряли ударную силу, необходимую для взятия городов, и лишь грабили их окрестности. Пора было возвращаться. Но остаться на равнинах Венгрии, как предполагал Бату, не получилось — из далекой уже Монголии пришла весть о смерти Великого хана Угэдея. Положение осложнялось тем, что в Каракоруме уже находился злейший враг Бату и главный претендент на великоханский престол — Гуюк. Надо было обосноваться поближе к Монголии, где-нибудь в Великой Степи. И тумены Бату ушли из Центральной Европы — как оказалось, навсегда.
Как показали дальнейшие события в Каракоруме, Бату не ошибался в своих опасениях. Великим ханом действительно был избран его ненавистник Гуюк, и конфликт с ним перерос в поход на батыев «улус Джучи». К счастью для Бату, Гуюк умер в этом походе, не дойдя со своими войсками до Волги. Следующим великим ханом при поддержке посланных Бату туменов стал другой его двоюродный брат, Мунке.
Первое появление прежде невиданных «татар» вблизи Киевской Руси связано с довершением монгольского разгрома среднеазиатского государства Хорезмшаха.
Чингиз-хан договорился с шахом о торговых отношениях. Собирался ли он этот договор соблюдать, осталось неизвестным, но первый же богатый караван был хорезмийцами ограблен, а купцы и сопровождавшие его монгольские воины убиты. Присланных монголами послов казнили. После этого, не окончив завоевания Китая, Чингисхан пошел на Хорезм. Открытого сражения шах Мухаммед не принял, но отсидеться в городах-крепостях не удалось — монголы брали их один за другим, вырезая все население и уводя к себе лишь ремесленников. Шах бежал. Чингиз сам его преследовать не стал, вернувшись в Китай, а послал на его поимку тумены (по 10 тысяч всадников каждый) Субэдэя и Джэбэ.
Шаха они так и не поймали (Мухаммед умер своей смертью на островке у южного побережья Каспийского моря), но дошли в своих поисках до южных отрогов Кавказа. Они прошли через единственный проход между горами и Каспием — и очутились на Северном Кавказе. Здесь они разгромили алан и половцев. Половцы отступили к границам Киевской Руси и попросили у ее князей помощи в борьбе с новым врагом: «Сегодня они отняли нашу землю, завтра ваша взята будет».
Южнорусские князья собрались в Киев на совет. Киевский князь Мстислав заявил: «Пока я нахожусь в Киеве — по эту сторону Яика, и Понтийского моря, и реки Дуная татарской сабле не махать». О численности собранной ими рати мнения историков расходятся, но ясно, что она заметно (в 2-7 раз) превосходила силы монголов. Но единого командования не было — полки из разных земель подчинялись только своим князьям.
Узнав о собираемой против них рати, монголы прислали в Киев посольство с предложением князьям не поддерживать половцев: «Мы слышали, что и вам они наделали много зла; мы их и за это бьём». Половцы же рассказали о недавнем маневре монголов, когда они уговорили их не поддерживать аланов, а после их разгрома неожиданно на них напали. Выслушав послов, русские князья приказали всех их убить.
Объединенная рать ушла довольно далеко от владений русских князей и, обнаружив противника, остановилась на берегу реки Калки. Ни о каком осмысленном общем плане сражения речи не было: киевский князь обносил крепкой изгородью свой лагерь на правом берегу реки, полки черниговского князя заняли брод, а князь галицкий с дружиной и половцами перешли реку.
Галичане с половцами после разведки решили, что смогут с конницей пришельцев справиться самостоятельно и рано утром атаковали монголов. Однако, они натолкнулись на силу, которую были не в состоянии одолеть. Половцы побежали, смяв при этом выступающих на битву черниговцев. Монголы гнали в беспорядке отступавших вплоть до Днепра, переправиться через который удалось немногим. Затем они вернулись и осадили укрывавшуюся за укреплениями дружину киевлян. Три дня они не могли ничего сделать с обороняющимися, пока не дали обещания, что в случае сдачи не прольют крови князей. Киевская дружина сдалась и монголы выполнили обещание — связанных князей положили под доски помоста, на котором под их предсмертные стоны пировали победители…
После битвы на Калке монгольские тумены пошли было к Киеву, но, узнав о подошедшей туда владимирской рати, повернули коней против волжских булгар. Однако здесь они натолкнулись на хорошо организованный отпор — с засадами, заманиванием в неудобные места, с внезапныцми атаками со всех сторон. Из волжского похода удалось вырваться лишь 4-м тысячам монгольских всадников, которые ушли на восток.
Родившийся в глубине центральноазиатских степей 1162 году, Темучин вышел из чрева матери со сгустком крови в ладошке…
Девятилетним его сосватали одиннадцатилетней девочке из соседнего рода. Отец, глава кочевой семьи, оставил сына в семье невесты до совершеннолетия, чтобы они лучше узнали друг друга. На обратном пути он задержался на стоянке племени татар, где, судя по всему, был отравлен. Темучин остался в своей семье за старшего.
После смерти отца Темучина глава клана выгнал семью с насиженных мест, угнав весь принадлежавший ей скот. Несколько лет его вдовы с детьми жили в полной нищете, скитались в степях, питаясь кореньями и дичью.
Глава клана опасался подрастающего мстителя и напал на стойбище его семьи. Темучина поймали и забили шею в колодку — невозможно было самостоятельно ни поесть, ни попить, ни муху согнать с лица… Но пленник все же бежал и спрятался в маленьком озерце, погрузившись в воду, выставив на поверхность одни ноздри. Его заметил один из преследователей, но решил помочь Темучину. Когда погоня ускакала дальше, он дал измученному мальчишке коня, оружие и отправил домой. Вновь обретшая главу, семья перекочевала в другие места, где их не могли найти враги.
Темучин женился на своей нареченной Борте, родившей впоследствии ему четверых сыновей. В качестве приданого Борте принесла соболью шубу, которую Темучин тут же подарил побратиму своего отца Тоорилу, прося у того дружбы и поддержки. И он нашел поддержку у старого вождя — к нему постепенно стали стекаться нукеры (друзья, товарищи, дружинники), с которыми он занялся обычным промыслом багатуров — нападал на соседей, уводил их стада. Он отличался от остальных завоевателей тем, что в ходе сражений старался сохранить в живых как можно больше человек из числа противников, чтобы в дальнейшем привлечь их к себе на службу.
Еще мальчиком Темучин подружился со своим ровесником Джамухой из знатной семьи, который вскоре стал вождем своего племени. Они стали побратимами, обменявшись поясами и конями. Его-то Темучин и попросил о помощи, когда отчаянно в ней нуждался — во время его отсутствия старые его враги угнали к себе его беременную жену. В первом в своей жизни сражении (на территории совр. Бурятии) Темучин вместе со своими союзниками, Тоорилом и Джамухой, победил.
После сражения Тоорил вернулся к себе, а Темучин и Джамуха остались жить вместе в одной орде. Но когда через год они разделились, многие воины Джамухи перешли к более удачливому Темучину, что посеяло у того первые ростки неприязни к другу.
Отделившись, Темучин принял на службу сына кузнеца Субэдэя, который позже стал самым способным его военачальником, прошел с ним путь от Северного Китая до среднеазиатского государства Хорезмшахов, а потом, при его внуке Бату, стал военным руководителем Западного похода монголов.
А Джамуха уже искал открытой ссоры… Когда его брат попытался угнать лошадиный табун с территории Темучина и при этом погиб, Джамуха выступил против своего побратима — и победил его в бою. Сильно охладели отношения и со стариком Тоорилом. Последней общей для союзников битвой стал разгром одного из кочевых ханов на Алтае. А когда они возвращались, дорогу им заступил крупный вражеский отряд. Битву решено было начать утром, но ночью Джамуха и Тоорил тайно ушли, надеясь на гибель оставленного ими Темучина. Тот, однако, спасся, покинув поле несостоявшегося боя, которое могло стать для него роковым. А враги стали преследовать не его, а Тоорила. Тот послал гонцов к Темучину с просьбой о помощи — и Темучин его спас, его нукеры наголову разгромили противника. Тоорил в благодарность завещал свой улус Темучину.
Тоорил и Темучин были вместе, когда окружающие их племена стали группироваться вокруг Джамухи. В одной из битв Темучина сильно ранило стрелой, его выхаживали всю ночь, а утром он пошел к пленным, чтобы выяснить, кто в него стрелял. Один из пленных признался, что это был он. И Темучин взял его в свой отряд. Позже тот удачливый стрелок стал одним из выдающихся монгольских военачальников — Темучин дал ему имя Джэбэ («Стрела»), под которым он и прославился во многих монгольских походах.
В 1202 году Темучин выступил против татар. Перед этим походом он отдал приказ, согласно которому под угрозой смертной казни категорически запрещалось захватывать добычу во время боя и преследовать неприятеля без приказа: начальники должны были делить захваченное имущество между воинами только по окончании боя. Жестокое сражение было выиграно, и на совете, собранном Темучином после битвы, было решено уничтожить всех татар, кроме детей ниже тележного колеса, как месть за убитых ими монголов (и за отца Темучина).
В своей последней битве старый Тоорил совершил последнюю в своей жизни ошибку, поддавшись уговорам своего сына, от всей души ненавидевшего Темучина за то, что отец всегда отдавал тому первенство — он встал в ряды его врагов. Битва была проиграна, отец и сын бежали и погибли безвестно… Джамуха после нескольких попыток поднять на Темучина племена попытался бежать, но был выдан Темучину своими же нукерами.
Темучин, следуя своему правилу «Самое суровое наказание — за предательство», казнил нукеров своего побратима и врага, а Джамухе предложил вернуться к старой дружбе. Но получил ответ: «Как в небе есть место лишь для одного солнца, так и в Монголии должен быть только один владыка». Джамуха попросил только одного — достойной смерти. И он получил ее — воины Темучина сломали ему хребет…
У Темучина не осталось соперников в восточной части Великой степи. Монголы были готовы появиться на арене мировой истории. В 1206 году вожди монгольских племен собрались на курултай, где Темучин был избран великим ханом с титулом Чингис-хан. Провозглашалось создание Великого монгольского государства. Всё устройство этого государства подчинялось главной цели — войне, войне за господство над всем миром.
Созданная Темучином-Чингиз-ханом Великая монгольская империя смела с лица земли великие и древние государства: Китайскую империю, государство Хорезмшахов, Багдадский халифат, Киевскую Русь. Монгольские конные тумены дошли до Польши и окрестностей Вены, вышли на берег Адриатического моря. Но она так и не стала Римской империей Азии — ее корневой народ был даже бесписьменным. Ее движение-расширение захватило множество гораздо более культурных народов, что помогло ей продержаться до 14 века, в котором произошло неизбежное. И теперь только музеи да названия улиц и площадей в редких городах современной Монголии напоминают о былом величии…
Русь и Орда
МОНГОЛЬСКОЕ НАШЕСТВИЕ
Монголы. На крайнем востоке Великой степи, там, где она с севера и запада примыкает к Китаю, всегда было неспокойно. Здесь жили скотоводческие народы. В своем извечном «броуновском» движении со своими стадами племена сталкивались между собой, теснили, уничтожали или поглощали друг друга, сливались, а затем снова раскалывались, расходясь в необъятных просторах Центральной Азии. Иногда они объединялись вокруг наиболее сильных родов и племен, и их военные союзы становились грозной силой для всех соседей — прежде всего, для богатого земледельческого Китая. Китайские царства во времена внутреннего мира были способны успешно противостоять натиску Степи, но как только в Поднебесной начинались раздоры и смуты, страна подвергалась опустошительным набегам кочевников.
 В начале 13-го века в центральноазиатских степях сформировался сравнительно немногочисленный, но сплоченный и воинственный народ — монголы. Объединил и возглавил его талантливый, жестокий и удачливый вождь — Темучин (будучи избран монголами верховным правителем, он получил имя Чингиз-хан).
В начале 13-го века в центральноазиатских степях сформировался сравнительно немногочисленный, но сплоченный и воинственный народ — монголы. Объединил и возглавил его талантливый, жестокий и удачливый вождь — Темучин (будучи избран монголами верховным правителем, он получил имя Чингиз-хан).
К монголам Чингиза примкнули многие соседние племена, и их мужчины составили массовую армию, жаждавшую завоеваний. Северный Китай, ослабленный междоусобицами, оказался легкой добычей кочевников. Перейти Хуанхэ и вторгнуться в единый и сильный в то время Южный Китай монголы не решились, и Чингиз-хан развернул свою армию на запад, в Среднюю Азию. Пополняясь на ходу все новыми кочевыми родами, войско Чингиза вторглось во владения обширной Хорезмской державы.
Понадеявшись на то, что кочевники по-прежнему не умеют брать штурмом сильные крепости, хорезмшах избрал тактику «глухой» обороны, его войска заперлись в приграничных городах-крепостях. Это была роковая ошибка — монголы успели перенять в Китае тактику штурма мощных укреплений, в их армии была специальная техника и китайские специалисты по проламыванию крепостных стен и поджогам городов. В результате хорезмийский оборонительный пояс был взломан и городские гарнизоны были уничтожены поодиночке. Путь к богатствам среднеазиатских оазисов был открыт. А впереди чингизова войска, парализуя волю к сопротивлению, летел ужас — пришельцы истребляли городское население поголовно, вне зависимости от того, защищался ли город или сдавался без боя.
В эти походах закалилась, набралась боевого опыта армия, сражаться с которой на равных в тогдашней Евразии не мог никто. Чингиз-хан, его наследники и военачальники воспользовались своей силой в полной мере. Империя, созданная ими в 13 веке, стала самым большим по площади государством в мировой истории.
Западный поход. Преследуя остатки хорезмийских войск, армия Чингиза вторглась в Индию, опустошила Иран. Один из ее крупных отрядов прорвался через кавказские ущелья и вышел в половецкие степи. Здесь дорогу ему заступили объединенные силы половцев и нескольких русских князей, но в битве на реке Калке они были разбиты (1223 год).
(1223) Первый «западный» поход монголов. Битва на Калке и поражение в Волжской Булгарии
Победители повели наступление вверх по Волге, но натолкнулись на стойкое сопротивление булгар, после чего остатки монгольского отряда повернули коней на восток. Тринадцать лет после этих событий о невесть откуда взявшихся «татарах» в этих краях ничего слышно не было.
После смерти Чингиз-хана в 1227 году его сыновья распределили между собой управление уже огромной империей и продолжили завоевания. В 1236 году после тщательной подготовки начался запланированный еще Чингизом грандиозный поход в Европу. Руководил им внук Чингиза, Бату [на Руси его называли Батыем].
В эти годы завоевания монгольских ханов в южной Азии продолжались, и после смерти Чингиз-хана в 1227 году его сыновья распределили между собой управление уже огромной империей. В 1236 году после тщательной подготовки начался запланированный еще Чингизом грандиозный поход в Европу. Руководил им внук Чингиза, Бату [на Руси его называли Батыем].
В первый год был разгромлен Булгар, покорены поволжские и северокавказские народы, из причерноморских степей вытеснены половцы. В следующем, 1237 году, был нанесен сокрушительный удар по Северо-Восточной Руси. После падения Рязани, Владимира, Суздаля, Ростова татарская конница двинулась на Новгород, но повернула назад в ста километрах от города.
Через год войско Бату-хана огнем и мечом прошло по Южной Руси. Разрушив и спалив Киев, татары прошли через Волынско-Галицкие земли, перевалили Карпаты и разгромили объединенную рать поляков, венгров и тевтонских крестоносцев. Затем они стремительно, обходя города, двинулись на запад, сбивая немногочисленные рыцарские заслоны. Они были уже на побережье Адриатического моря, на пороге Италии, когда гонец привез Бату весть о смерти в Монголии великого хана. Сразу же после этого татарская конная армада ушла из Центральной Европы — так же стремительно и неожиданно, как и появилась.
(1236—1242) Западный («батыев») поход монголов
Бату спешил в Монголию, где в главной ставке — столице империи Каракоруме — решалось, кто будет следующим великим ханом. Завоеванные территории были распределены там между прямыми потомками Чингиза. Бату-хану достался в управление северо-запад империи (от Оби до Дуная). Он обосновался в низовьях Волги и поставил там свою столицу — Сарай, откуда собирался контролировать территории, по которым недавно прошли его тумены [тумен — конный отряд в монгольской армии численностью в 10 тысяч бойцов].
Потери Руси. Нашествие 1237-1240 годов было поистине опустошительным. Вряд ли сильно пострадали разбросанные на большой территории сельские поселения, но для русских городов «батыево» нашествие стало катастрофой. Было сожжено более семидесяти городов, многие из которых позже так и не возродились. После взятия города татары, по заведенному обычаю, устраивали поголовную резню оставшегося населения. Ремесленников, уцелевших в этой кровавой мясорубке, угоняли в плен во внутренние районы кочевнической империи.
В полевых битвах и при обороне городов полегли старые княжеские дружины, погибло древнерусское боярство. Пали в боях князья, которые не побежали перед татарами, а попытались дать им отпор.
Погибли все те, кто ограничивал власть князя — дружины, бояре, города. Выжившие князья набирали, вооружали и обучали новые дружины, но это были уже не прежние соратники, русские рыцари домонгольских времен, а военные «служебники», подданные князя, которые всецело от него зависели и с мнением которых князь мог уже не считаться. Место погибших бояр заняли новые землевладельцы, но это были уже не прежние самостоятельные и гордые аристократы, полноправные наследственные хозяева своих вотчин, а приближенные князя, получавшие земли по его милости. Обескровленные города были уже не в силах перечить княжьей воле, и вечевые привычки, традиции самоуправления постепенно сходили на нет.
Князья начали чувствовать себя полными самовластцами, а всех живших в их уделах — своими подданными. Но одновременно, в лихую годину нашествия, они полной мерой ощутили свою беспомощность перед превосходящей силой Степи. Они знали, что, хоть татары и схлынули с Руси, но они рядом, и нападение может повториться в любой момент. Батыево нашествие сломило гордые души большинства русских князей, и они, все больше подчиняя своих подданных, сами проникались покорностью перед всевластным ханом.
Две Руси. Татары, ураганом пронеслись по Руси, промчались дальше на запад, а затем вернулись в степи и больше десяти лет на Руси их не видели. Первый шок от небывалых поражений начал проходить, оставшиеся в живых похоронили в братских могилах мертвых, вновь отстраивались разрушенные городские укрепления, выгоревшие храмы — жизнь, казалось, постепенно входила в привычную колею.
Очень скоро, не успев оправиться от поражения, русские князья возобновили прежние распри, вновь ходили друг на друга походами, пытались овладеть разоренным Киевом и т. д. Но все понимали, что былой самостоятельности русских княжеств пришел конец — совсем близко, в считанных конных переходах от границ обосновался казавшийся непобедимым хан, пристально следивший за событиями на Руси.
Первым в ставку Бату поехал с подарками великий князь владимирский. Хан встретил его милостиво и, как пишет летопись, отпустил со словами: «Ярославе, буди ты стареи всем князем в Русском языце». Так в 1243 году великокняжеское звание было получено не по обычаям Руси, а пожаловано монгольским ханом. Вскоре и другие князья потянулись с дарами в Сарай — испрашивать разрешения оставаться владетелями своих «отчин».
Повелитель Орды не давал в обиду своих ставленников. Как только лидер Юго-Востока, князь Даниил Галицкий, разбил дружину владимирского великого князя и овладел отцовскими уделами, он был тут же вызван в волжскую ставку для «вразумления». Впрочем, на первый раз излишняя самостоятельность сошла ему с рук, — его заставили признать над собой ханскую власть и оставили князем. Бату пока не прибегал к силе, он старался приучить русских князей к их новому положению: «Привыкай, князь, — теперь ты один из нас», — приговаривал хан, потчуя Даниила непривычным ему кумысом. Вскоре, однако, монголы продемонстрировали, что своих слуг-князей они вольны не только миловать, но и казнить: тот же владимирский князь Ярослав по подозрению в непокорстве был вызван сначала в Сарай, переправлен затем в Каракорум и там отравлен.
Об открытом сопротивлении ордынцам не могло быть и речи — сил отдельных князей было для этого явно недостаточно. Из этой тяжелой и поначалу унизительной ситуации было два выхода: либо искать союзников для отпора, либо окончательно забыть о былой самостоятельности и «встроиться» в монгольскую империю.
Оказавшиеся на этом перекрестке истории русские князья Даниил Галицкий и Александр Невский избрали разные дороги и, тем самым, предопределили разные судьбы Северо-Востока и Юго-Запада Руси.
ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ЛИТОВСКОЕ И РУССКОЕ
«Злее зла честь татарская», — так отозвался князь Даниил о сравнительно благополучном своем визите в Орду. За помощью он обратился к римскому папе, убеждая его поднять европейских рыцарей на крестовый поход против монгольской империи. За это он готов был дать дорогую цену — перевести свои владения из православия в «латинство». Но князя ждало разочарование — в католической Европе желающих сразиться с монгольской армией не нашлось (присланная папой королевская корона была Даниилу слабым утешением). Он попытался было действовать самостоятельно и овладел Киевом, но в его земли вторгся крупный карательный отряд ордынцев, который ушел в степь только после того, как волынцы и галичане сами разобрали стены своих крепостей и городов.
После такого урока Даниил начал действовать более осторожно, но в том же направлении, налаживая отношения со своими западными соседями. В конце своего долгого правления он был, пожалуй, самым авторитетным и влиятельным правителем в Центральной Европе. Сыновья его и внуки продолжали ту же политику — всячески отгораживаться от Орды и активно действовать на западе — где силой, где дипломатией, где династическими браками.
Через несколько десятилетий после Батыева нашествия междоусобицы внутри Орды стали подтачивать ее силы, и ханы были уже не в состоянии держать под контролем события на окраинах своей державы. Власть их в западной части бывшей Киевской Руси к началу 14-го века стала чисто номинальной.
Западнорусские земли с севера граничили с территорией литовских племен. Литовцы были язычниками, навязывать веру своих отцов другим народам они не собирались, их вожди были воинственны, закалены в битвах с крестоносцами, а потому их охотно приглашали княжить православные западнорусские города. Вскоре выходцы из Литвы заняли большинство княжеских «столов» Западной и Юго-Западной Руси. Государство, возникшее из союза литовцев и русских, получило имя «Великое княжество Литовское и Русское». Военные походы русско-литовских ратей в южные пределы бывшей Киевской Руси превратили Великое княжество в крупнейшее государство тогдашней Европы.
Литовские великие князья не покушались на родовые владения боярства и городские вольности. Лозунгом новой династии стало: «Старого мы не меняем, нового не навязываем». Да и вряд ли литовские князья были в состоянии навязать свои порядки, — православные русские составляли 9/10 населения государства. Язык большинства населения стал и официальным, государственным языком Великого княжества. Многие литовские князья принимали православие или крестили по восточному обряду своих детей. Но вопрос об окончательном выборе веры для литовской княжеской династии долгое время оставался открытым.
Литовско-русское государство претендовало на то, чтобы стать прямым наследником Киевской Руси, объединить в своих границах все русские княжества и города. Продвигаясь на юг, в Киевское Приднепровье, русско-литовские рати столкнулись с ордынцами. В 1362 году в большой битве у Синих Вод татарские силы были разгромлены, после чего границы Великого княжества простерлись до черноморского побережья.
Борьба на севере с крестоносцами также была успешной. В 1410 году объединенная польско-литовско-русская рать в знаменитой Грюнвальдской битве уничтожила цвет тевтонского рыцарства — от такого поражения Ордену уже не удалось оправиться.
Движение на восток, в русские княжества, признававшие власть Орды, поначалу также было успешным. Однако, придвинув свои границы почти к самой Москве (граница долгое время проходила около Можайска), Великое княжество как будто натолкнулось на невидимую стену, и оказалось не в силах продвинуться дальше — здесь, вокруг московских князей уже успело сложиться ядро нового жизнеспособного государства.
МОСКОВИЯ
Самым знаменитым князем Северо-Восточной Руси в первые десятилетия после нашествия стал один из сыновей великого князя Александр Ярославич. В молодости он, командуя новгородскими полками, разгромил отряд скандинавов высадившийся на берегу Невы, а через два года (в 1242 году) одержал победу над ливонскими рыцарями на льду Чудского озера. Авторитет Александра в Новгороде после этого сильно и надолго укрепился.
Когда пришло известие о смерти великого князя Ярослава, отравленного в Монголии, началась борьба за власть, в результате которой на престол взошел («не в очередь») младший брат Александра — Андрей. Подобные «замятни» были нередки и в прошлом, однако раньше они были внутренними проблемами княжеской династии, дружин и городов. Теперь же у обойденных при дележе власти появился в «семейных» распрях новый арбитр — хан. Братья отправились в дальний путь в Монголию, в Каракорум, и там захват власти Андреем был признан законным. Однако через какое-то время испортились отношения между великим ханом и Бату. Александр поспешил использовать эту благоприятную для него ситуацию: он поехал «погостить» к сарайскому хану, после чего во владимирскую землю ворвался татарский карательный отряд («Неврюева рать»). Дружина Андрея была разбита (сам он бежал в Швецию), татары разорили и разграбили княжество и, уведя большой «полон», вернулись в степь, а Александр уже великим князем торжественно въехал во Владимир. Это был первый случай использования ордынских войск в русских междоусобицах.
Александр активно и последовательно «встраивал» подвластные ему земли в государственную систему монгольской империи. На этом пути ему приходилось круто ломать вольнолюбивые привычки своих подданных. Через десять лет после Ледового побоища победитель рыцарей и защитник Новгорода вновь пришел в город — на этот раз его дружина охраняла ордынских чиновников, проводивших перепись населения для организации сбора ханских даней. Такая перепись прошла и во Владимиро-Суздальском княжестве: все население было разделено на десятки, сотни, тысячи, и во главе каждой такой группы был поставлен ответственный за исправность всех платежей и исполнение повинностей. Самым ненавистным был «налог кровью» — обязанность поставлять русских воинов в ханские войска, продолжавшие завоевания и усмирения по всей Азии.
Превращение Северо-Восточной Руси в ордынский улус было очень болезненным. В 1262 году произошла стихийная вспышка протеста против ордынских сборщиков дани [это были среднеазиатские купцы], все они были убиты. Александр спешно выехал в Сарай, чтобы там «отмолить люди своя». Авторитет его в Орде был высок, убитые, к счастью, не были монголами, и ханских репрессий не последовало. На обратном пути на родину Александр Ярославич умер. Когда весть о его смерти дошла до Владимира, митрополит во всеуслышанье воскликнул: «Закатилось солнце земли Суздальской!»
Александр Невский посвятил свою жизнь обеспечению безопасности и хотя бы относительного благополучия своей страны в очень сложных, порой невыносимых условиях. Ради этого он сознательно принес в жертву независимость своих земель (и свою собственную). Но то, что началось после смерти Александра в конце 13-го века, по масштабам народного разорения можно сравнить только с Батыевым нашествием. В борьбе за великокняжеский престол схватились два его старших сына. У них не было ни отцовской самоотверженности, ни его незаурядных талантов, зато была неуемная жажда власти, которая вытеснила в них всякую заботу о своей стране. То, что отец позволил себе однажды, сыновья ввели в систему: во время долгой междоусобицы они ходили друг на друга во главе выпрошенных у ханов татарских ратей пять раз. Когда же победитель окончательно утвердился на отцовском престоле, он для подчинения одного из младших князей вызвал татар в шестой раз.
В борьбе за власть и другие князья охотно начали использовать ханские войска. За последние 25 лет 13-го века таких русско-татарских карательных экспедиций историки насчитали пятнадцать. Эти княжеские походы друг на друга во главе татарских туменов, в отличие от усобиц прежних лет, были разорительны, прежде всего, для мирного населения княжеств: ордынцы приходили в чужую им землю и в награду за помощь получали свободу грабить княжества соперников и уводить в степь огромные «полоны» для продажи на невольничьих рынках. Снова и снова опустошались, безлюдели и горели города: Владимир — дважды, Рязань, Суздаль, Муром — трижды, Переяславль-Залесский — четырежды.
Тем временем подрастал младший сын Александра Ярославича — Даниил, которому отец выделил в удел небольшой городок — Москву.
Москва впервые упомянута в летописи в 1147 году. Там, на берегу Москвы-реки, князь Юрий Долгорукий устроил угощение для одного из князей. Владел теми местами суздальский боярин Степан Кучка. Юрий Долгорукий за какую-то грубость боярина приказал убить, а его деревнями завладел сам.
Старшие братья Даниила гонялись за великокняжеским званием и надеялись при этом, главным образом, на ханское благоволение. Но при этом они мало заботились об укреплении основы собственной силы — о своем наследственном владении, уделе-«отчине». Даниил первым из наследников Александра Невского понял, что, в конечном итоге, прочной победы добьется тот князь, который сумеет расширить, укрепить, сплотить и передать детям те земли, на владение которыми не нужно испрашивать разрешения в Орде.
Московская «отчина» Даниила была мала и небогата, но этот князь не соблазнялся призрачными титулами, целиком зависевшими от ханов, а начал методично и упорно наращивать силу собственной вотчины: укреплял небольшую свою столицу и окрестные городки, понемногу приращивал к ней по кусочкам соседние территории, сплачивал вокруг себя верных и зависимых только от него бояр, привлекал на свою сторону влиятельных иерархов православной церкви. Наследники Даниила продолжили его дело.
(1325) Князь Юрий Московский убит в Орде Дмитрием Грозные Очи
(1325—1340) Московский князь Иван Калита
Особенно преуспел в расширении своей московской вотчины внук Александра — Иван Данилович, прозванный Калитой [Калита (тюркск.) — денежный кошель]. Владения верных ему бояр появляются далеко за пределами Московского княжества, скупаются земли и даже города. Калита активно использует Орду для достижения своих целей: восстал против татар Ростов — Калита испрашивает мятежный город себе, ставит управителями своих воевод, изгоняет местных бояр и раздает их вотчины своим московским приближенным; отказывается повиноваться ордынцам Тверь — Калита с московской дружиной идет вместе с татарским войском карать ослушников (награда — титул великого князя); прощает хан тверских соперников, — Калита едет в Орду с доносом, в результате которого тверского князя с сыном казнят в Сарае лютой смертью («розоимаша» по частям), а великий князь по возвращении собирает с Руси и отправляет в Орду двойную дань. В результате такой политики многократно возросла территория, богатство и влияние княжества Московского.
Пока был жив Иван I Калита, а сарайские ханы — сильны, Орда могла быть уверена в своей власти над своим «русским улусом». Но внук Калиты, Дмитрий [после Куликовской битвы невдалеке от Дона получивший почетное прозвище Донской] воспользовался дедовским «капиталом» для того, чтобы впервые попробовать избавиться от ордынской зависимости. Действуя решительно и жестко, Дмитрий подчинил себе большинство русских князей, сломил последних соперников Москвы — теперь у него «под рукой» были силы всей страны. К этому времени «батыева» Орда раскололась надвое, — граница прошла по Волге. В западном ее осколке началась «великая замятня» — убийства ханов и перевороты следовали один за другим, и Сараю долгое время было не до Руси.
(1359-1389) Московский князь Дмитрий Иванович (Донской)
Дмитрий — первый из русских князей, который решился на открытое столкновение со всей ордынской силой. Это было трудное решение не только потому, что военное счастье могло изменить московскому великому князю. Смущало то, что в грядущем столкновении подданный поднимал руку на своего государя (хана на Руси называли «царь») — для средневекового человека это было большим преступлением. Но у Дмитрия нашлись оправдания. Во-первых, ордынские правители вместе с большинством своих кочевых подданных приняли ислам (в начале 14 века), а потому борьба с ними приобретала уже религиозный оттенок. А во вторых, трон в Орде полностью контролировал военачальник Мамай, который по монгольским обычаям прав на это не имел (он не был чингизидом — потомком Чингиз-хана). Для Дмитрия это оказалось хорошим предлогом, чтобы отказаться признать над собой власть Мамая.
Однако десятки тысяч русских воинов, которые со всей Руси сошлись на Куликово поле, вряд ли серьезно задумывались над этими тонкостями, — здесь был народ, осознавший свое единство и не желавший более быть окраиной чужой державы. Именно это национальное и религиозное чувство будил в своей проповеди духовный наставник великого князя Сергий Радонежский.
Куликовская победа (1380 год) не привела к независимости Московии. Новый хан, чингизид Тохтамыш, добивший Мамая, в своем послании Дмитрию Донскому сделал вид, что законный хан благодарен своему вассалу за помощь против самозванца, и что во взаимоотношениях Орды и Руси все остается по прежнему. Но, чтобы заставить Московскую Русь возобновить уплату дани «по старине», новому хану пришлось вторгнуться в ее пределы со всеми своими силами и сжечь ее столицу. После этого Русь вновь признала себя ордынским улусом, но в Москве уже понимали, что после Куликовской битвы обретение независимости от Орды — дело лишь времени и обстоятельств.
Не случайно, что через несколько лет после Куликовской битвы литовские князья после долгих колебаний приняли решение о крещении язычников-литовцев в христианство по католическому обряду. Литовский великий князь Ягайло женился на юной польской королеве Ядвиге и в результате Польское королевство и Великое княжество Литовское и Русское образовали унию во главе с общим королем. Тем самым литовские князья признали бесперспективность своих усилий объединить все земли бывшей Киевской Руси и решили влиться в европейский мир. [соперничество Литвы и Московии продолжалось еще долгое время, но это уже была борьба только за приграничные земли] Московская же Русь осталась пока вассалом азиатской Орды.
(1385) Уния Великого княжества Литовского и Русского с Польским королевством
Читать дальше:
«В 1192 году, во время последних попыток христиан удержаться в Палестине, Тевтонский орден рыцарей Богородицы получил окончательное утверждение. Новые рыцари носили черную тунику и белый плащ с черным крестом на левом плече; кроме обыкновенных монашеских обетов они обязывались ходить за больными и биться с врагами веры; только немец и член старого дворянского рода имел право на вступление в орден. Устав его был строгий: рыцари жили вместе, спали на твердых ложах, ели скудную пищу за общею трапезой, не могли без позволения начальников выходить из дому, писать и получать письма; не смели ничего держать под замком, чтоб не иметь и мысли об отдельной собственности; не смели разговаривать с женщиной. Каждого вновь вступающего брата встречали суровыми словами: «Жестоко ошибаешься, ежели думаешь жить у нас спокойно и весело; наш устав — когда хочешь есть, то должен поститься; когда хочешь поститься, тогда должен есть; когда хочешь идти спать, должен бодрствовать; когда хочешь бодрствовать, должен идти спать. Для Ордена ты должен отречься от отца, от матери, от брата и сестры, и в награду за это Орден даст тебе хлеб, воду да рубище».
К этому-то Ордену обратился Конрад Мазовецкий с просьбою о помощи против пруссов.
…
Пруссия была разделена на одиннадцать областей, не связанных друг с другом никаким политическим союзом; жители этих областей могли безнаказанно опустошать владения Польши, слабой от раздела, усобиц и внутреннего нестроения, но сами в свою очередь были не способны ни к какому соединенному, дружному предприятию; их нападения на Польшу были набегами разбойничьих шаек; при обороне собственной земли они не могли выставить также общего, дружного сопротивления; каждая область, каждое племя боролось поодиночке со своим новым врагом, а этот враг был военное братство, которое существовало с целью постоянной, неусыпной борьбы и которое обладало всеми средствами к этой борьбе: на его стороне была постоянная, самая строгая дисциплина, на его стороне было военное искусство, на его стороне было религиозное одушевление; потери Ордена были для него нечувствительны; после каждого поражения он восставал с более грозными силами, потому что ряды погибших братьев быстро замещались новыми подвижниками, стекавшимися со всех сторон, чтоб пролить кровь свою в священной борьбе, под славною хоругвию девы Марии и св. Георгия.
Против сурового дикаря Западная Европа выставила столь же сурового рыцаря, но со всеми преимуществами образованности. Верен был успех на стороне Ордена; но Орден дорого заплатил за этот успех. Первое занятие прусских земель немцами совершилось довольно быстро; городки старшин прусских полегли перед рыцарями, и замки последних строились беспрепятственно: что шаг вперед, то новая твердыня. Но одним построением крепостей в новозанятых странах Орден не ограничивался; льготами привлекались немецкие колонисты в новопоставленные города; люди, стекавшиеся из разных стран помогать Ордену в священных войнах, получали от него в лен земельные участки, на которых строили новые замки; туземцы, оставшиеся от истребления, принуждены были или бежать в Литву, или принять христианство и подчиниться игу новых господ.
Для утверждения новой веры среди пруссов Орден отбирал детей у туземцев и отсылал их учиться в Германию, с тем чтобы эти молодые люди, возвратясь потом на родину, содействовали распространению христианства и немецкой народности среди своих соплеменников. Несмотря, однако, на эти средства, пруссы, озлобленные жестокими притеснениями, тяжкими работами, надменным обхождением победителей, пять раз восставали против последних и против новой веры, принятой неволею.
В первое из этих восстаний только две области, прежде всех занятые немцами, остались верны Ордену; в других же областях прусских рыцари едва успели удержать за собою несколько замков, и такое состояние дел продолжалось четырнадцать лет. Казалось, что Орден должен был отказаться от надежды вторично покорить Пруссию; но вышло иначе по причинам вышеизложенным:
Орден нельзя было окончательно обессилить опустошением его владений, ибо он получал свое питание извне, из всей Германии, из всей Европы. А пруссы? Благодаря побуждению и подкреплению извне, от князей литовских, они умели единовременно восстать против пришельцев; но при самом этом единодушном и единовременном восстании каждая область выбрала особого вождя — дурное предвещание для будущего единства в борьбе! И точно, когда Орден начал снова наступательное движение, борьба приняла прежний характер: каждая область снова защищалась отдельно и, разумеется, при такой особности не могла устоять пред дружным и постоянным напором рыцарей.
Наконец, продолжительное знакомство с христианством, с высшею образованностию пришельцев должно было произвести среди пруссов свое действие: несмотря на упорную привязанность к родной старине, на жестокую ненависть к пришельцам-поработителям, некоторые из пруссов, разумеется лучшие, не могли не заметить превосходства веры и быта последних; и вот иногда случалось, что среди сильного восстания избранный вождь этого восстания, лучший человек в области, вдруг покидал дело соплеменников, переходил на сторону рыцарей и принимал христианство с целым родом своим: так начала обнаруживаться слабость в самой основе сопротивления со стороны пруссов, в религиозном одушевлении.
Второе восстание было последним обнаружением сил прусской народности; третье восстание, случившееся в последней четверти XIII века, показало только, что эта народность находится уже при последнем своем часе: вспыхнувши вследствие личных, своекорыстных побуждений одного человека, оно тотчас же потухло; четвертое и пятое восстания носили такой же характер; при пятом жители одной прусской области, Самбии, видя, что все лучшие люди прямят Ордену, положили истребить сперва их и потом уже броситься на немцев; они выбрали себе в предводители одного молодого человека, но тот принял это звание для того только, чтоб удобнее предать главных врагов в руки рыцарей.
Ясны были признаки бессилия пруссов, а между тем рыцари не отдыхали на лаврах, неутомимо и неуклонно преследовали свою цель и после пятидесятидвухлетней кровавой борьбы покончили завоевание Пруссии».
Кретьен де Труа
Ивэйн или Рыцарь со львом
Прекрасный образец рыцарского романа! Один из «бестселлеров» Кретьена де Труа, автора пяти подобных романов, пользовавшихся неизменной популярностью в рыцарских замках на протяжении нескольких веков.
В палатах короля Артура, Чья благородная натура Для человеческих сердец Являет редкий образец: Любовь с отвагой в сочетанье, — В палатах короля Бретани (Извольте мне прилежней внять!) На Троицу блистала знать. Сначала в зале пировали, Потом красавицы позвали Всех рыцарей в другой покой, Где разговор вели такой: Теперь бы нам послушать были О том, как в старину любили. Любовь, по правде говоря, — Подобие монастыря, Куда строптивые не вхожи. Уставов мы не знаем строже. Тот, кто в служении ретив, И в пылкой нежности учтив. Они, конечно, были правы. Грубее нынче стали нравы. Теперь уже любовь не та: Слывет побаской чистота, Забыта прежняя учтивость, Нет больше чувства, только лживость, Притворный торжествует пыл,- Порок влюбленных ослепил. Оставив это время злое, Давайте всмотримся в былое. Строга была любовь тогда И строгостью своей горда. Повествовать — мое призванье. Я рад начать повествованье О безупречном короле, Столь дорогом родной земле. Среди различных испытаний Не позабыт в своей Бретани Отважный, добрый государь, Любимый нынче, как и встарь. В тот день устал он веселиться. Он был намерен удалиться, Чтобы немного отдохнуть И после пиршества вздремнуть, Но королева возражала. Она супруга удержала, Король словам ее внимал И ненароком задремал. При этом гости не скучали, Беседовали, как вначале. Свой продолжали разговор В другом покое Сагремор, Кей-сенешаль, чье злоязычье Переходило в неприличье, И доблестный мессир Ивэйн, И друг его мессир Гавэйн. Наслушавшись других историй, Поведать о своем позоре Им пожелал Калогренан, Которому претит обман. История Калогренана Звучит причудливо и странно, Так что монархиня сама Заинтригована весьма. Рассказу внять она решила И сесть поближе поспешила. Калогренан прервал рассказ И перед нею встал тотчас. Как будто с цепи Кей сорвался И досыта поиздевался: «Достойнейший Калогренан! Какой талант вам богом дан! Вы совершенство, сударь, словом, Всегда везет пустоголовым, Отсюда вечный ваш успех, Поэтому вы раньше всех Пред государынею встали. Учтивостью вы так блистали, Что я по совести скажу: Я не заметил госпожу Моими слабыми глазами. Ослеплены мы, сударь, вами». «Боюсь я, лопнете вы, Кей! Пока на всех своих друзей Вы желчь свою не изрыгнете, Вы, Кей, свободно не вздохнете,— Монархиня ему в ответ.— Такая злоба вам во вред». «Ах, государыня, простите,— Промолвил Кей,— как вы хотите, Так я себя и поведу, Когда у вас я на виду. Вы только нас не покидайте, И недостойному вы дайте Вас хоть на праздник лицезреть. Мы все молчать готовы впредь, Когда монархине угодно. Однако начат превосходно Калогренаном был рассказ. Развлечь теперь он мог бы вас». «Беседа может продолжаться. С какой мне стати обижаться? — Калогренан тогда сказал.— Вы, Кей,— известный зубоскал. Другим вы спуску не давали, Довольно часто задевали Тех, кто меня куда знатней И, что греха таить, умней. Хотя порой чужие свойства Нам причиняют беспокойство, Нетрудно все-таки понять: Навоз не может не вонять. Известно, что слепни кусают, От них проклятья не спасают. Кей с малолетства ядовит. Пусть Кей друзей своих язвит, Не вижу в этом оскорбленья. Прошу я только позволенья У государыни самой Прервать рассказ докучный мой». «Нет,— Кей промолвил в раздраженье,- Хочу я слышать продолженье, Весельем общим дорожа. Не позволяйте, госпожа, Увиливать Калогренану. Я повторять не перестану: Мое желание — не блажь. Мой господин, а также ваш, Король меня поддержит, знайте, И на себя тогда пеняйте!» «Калогренан, любезный друг! Злословие — такой недуг,— Проговорила королева,— Что вашего не стоит гнева Достопочтенный сенешаль. Однако мне, конечно, жаль, Что вам я, сударь, помешала. Прошу, начните-ка сначала! Послушать бы теперь как раз О приключеньях без прикрас!» «Сударыня, я покоряюсь. Все рассказать я постараюсь. Слова нейдут сегодня с губ. Гораздо легче вырвать зуб. Ну что же, господа, вниманье! Не обвинит меня в обмане, Надеюсь я, ни враг, ни друг. Рассказ мне будет стоить мук. Поверьте, бесполезны уши, Пока не пробудились души. Семь лет назад совсем один, Как будто я простолюдин, В пути без всяких поручений Я днем и ночью приключений Как рыцарь подлинный искал. Я на коне своем скакал Во всем своем вооруженье, Не знал, какое пораженье Сулит мне мой неверный путь, И вздумал вправо повернуть. И вот меня приводит случай В Броселиандский лес дремучий. В густую погрузившись тень, Блуждал я лесом целый день. Кругом боярышник, шиповник И неприветливый терновник. Возликовал я всей душой, Приметив замок небольшой И в этой галльской глухомани, Уютный с виду, как в Бретани. Авось найду я в замке кров. Передо мной глубокий ров И мост, как водится, подъемный, И на мосту хозяин скромный. Для поединка нет причин: Передо мною — дворянин, Миролюбивая десница, Охотничья большая птица На ней торжественно сидит, На гостя пристально глядит. Мне сам хозяин держит стремя, Здоровается в то же время, И, пригласив меня во двор, Ведет учтивый разговор, Успеха мне во всем желает, И мой приезд благословляет, И предлагает мне ночлег. Какой хороший человек! За доброту, как говорится, Воздай, господь, ему сторицей! Отлично помню до сих пор Гостеприимный чистый двор. Среди двора, предмет полезный, Не деревянный, не железный, Подвешен гонг, чтобы звенеть Слышней могла литая медь. Подвешен тут же молоточек. В гонг безо всяких проволочек Ударил трижды дворянин. Все челядинцы, как один, Из горниц выбежали сразу И по хозяйскому приказу Убрали моего коня, Поклонами почтив меня. Повсюду слуги: справа, слева Смотрю, передо мною дева, Собой красива и стройна. Меня приветствует она, Снять помогает мне доспехи (Нет в мире сладостней утехи, Чем с ней побыть наедине). Уже короткий плащ на мне. Для зачарованного зренья Он как павлинье оперенье. Вот вижу я зеленый луг, Надежная стена вокруг. Меня девица усадила, Мой слух беседой усладила Наедине, без лишних глаз, Однако в этот поздний час Уже готов был сытный ужин, Который тоже был мне нужен. Прервать пришлось беседу с ней, Хоть это было мне трудней, Чем с другом лучшим распроститься! Так хороша была девица. Признаться, впрочем, и потом, Когда сидел я за столом, Она передо мной сидела, И созерцал я то и дело Благословенные черты Столь совершенной красоты. Отец ее достопочтенный, Гостеприимный и степенный, Сидит со мною за столом И повествует о былом. Он мне поведал, как, бывало, Отважных рыцарей немало Случалось принимать ему Здесь, в родовом своем дому, И было бы ему приятно, Когда бы, тронувшись обратно, Я замок снова навестил И хоть немного погостил. Такое приглашенье лестно, Отказываться неуместно, И я промолвил: «Сударь, да, Вас навестить я рад всегда». Нельзя гостей принять радушней. Я в замке был, мой конь в конюшне. Смотрю, за окнами светло. Я поскорее сел в седло, С хозяевами распростился И спозаранку в путь пустился. Все гуще становился лес. Деревья прямо до небес, Сплошная крепь, куда ни гляну. И заприметил я поляну. Нет, не медведи там дрались, Там дикие быки паслись. Бодают яростно друг друга, И содрогается округа. Мычанье, топот, стук рогов, — Свирепей в мире нет врагов. Я, задержавшись в отдаленье, Подумывал об отступленье, В чем нет, по-моему, греха, Как вдруг увидел пастуха. Какая это образина! Сидит на пне, в руках дубина, Обличьем сущий эфиоп, Косматый широченный лоб, Как будто череп лошадиный У этого простолюдина. Густыми космами волос Он весь, как дикий зверь, зарос. Под стать громоздкой этой туше Слоновые свисают уши С продолговатой головы. Кошачий нос, глаза совы, Кабаний клык из волчьей пасти, Всклокоченная, рыжей масти, Засаленная борода. Поверите ли, господа! Он бородою утирался. В грудь подбородок упирался, Искривлена была спина. Одежда не из полотна. Конечно, при таком обличье Носил он только шкуры бычьи. Увидев издали меня, Со своего вскочил он пня. Слегка встревоженный, признаться, Я был готов обороняться. Однако дикий лесовик Сражаться, видно, не привык. Стоит он, словно ствол древесны Ну, прямо идол бессловесный. Я говорю: «Кто ты такой?» Знаком ему язык людской. Сказало чудище лесное: «Я человек. Не что иное, Как человек».— «А что в лесу Ты делаешь?» — «Я скот пасу, Лесное стадо охраняю И больше ничего не знаю». «Клянусь апостолом Петром! Не совладать с лесным зверьем. Чтобы сберечь такое стадо, Нужна, по-моему, ограда Или какой-нибудь загон». «В моих руках лесной закон. Быкам позволил я бодаться, Но не позволил разбредаться». «Как ты пасешь быков таких?» «Со мною бык бодучий тих. Не то что слишком отдалиться, Не смеет бык пошевелиться. Любому шкура дорога. Быка схвачу я за рога, И содрогнутся остальные И присмиреют, как ручные, Притихнут, кроткие, вокруг, Боясь моих могучих рук. Чужих мои быки бодают, На посторонних нападают. Я господин моих быков. А ты-то сам? Ты кто таков?» «Я рыцарь,— говорю мужлану,— Искать весь век я не устану Того, чего найти нельзя. Вот какова моя стезя». «Ответь без лишних поучений, Чего ты хочешь?» — «Приключений! Я показать хочу в бою Отвагу бранную свою. Прошу, молю, скажи мне честно, Не скрой, когда тебе известно, Где приключение найти?» «Нет, я не ведаю пути В страну, где приключенья эти. С тех пор, как я живу на свете, Я не слыхал подобных слов, Однако дать совет готов. Источник в двух шагах отсюда. Но берегись! Придется худо Тому, кто на таком пути Не знает, как себя вести. Когда ты человек неробкий, Езжай по этой самой тропке. Поскачешь напрямик, вперед, Куда тропа тебя ведет. У нас в лесу тропинок много. Лишь напрямик — твоя дорога. Увидишь ты родник тогда. Бурлит вода, кипит вода, Однако можешь убедиться: Как мрамор, холодна водица. Большое дерево растет И зеленеет круглый год Над заповедной этой чашей. Деревьев не бывает краше, Видна цепочка меж ветвей, Поблескивает ковш на ней. Увидишь камень самоцветный, Для проезжающих приметный (Не знаю, как его назвать). Там, право, стоит побывать. Вблизи часовенка на диво. Она мала, зато красива. Возьми ты ковш в тени ветвей, Водою камень тот облей, И сразу дерево качнется. Такая буря вмиг начнется, Как будто бы обречены Олени, лани, кабаны. Сверкать начнет, греметь и литься. Столетним деревам валиться, Зверью несчастному страдать, И человеку пропадать. Когда вернешься невредимым, Считай себя непобедимым». И поскакал я напрямик И в полдень отыскал родник. Часовенка передо мною. Залюбовался я сосною. И вправду вечнозелена Высокоствольная сосна. Рассказа не сочтите басней, Я не видал дерев прекрасней. Не страшен дождик проливной Под этой дивною сосной, И под покровом этой хвои Спастись могло бы все живое. Был на сосне в тени густой Подвешен ковшик золотой. На наших ярмарках едва ли Такое золото видали. И камень тоже тут как тут: Наиценнейший изумруд, Обделан в виде чаши винной, Четыре жаркие рубина, Четыре солнца по краям. Солгать я не посмел бы вам. Покоя никогда не зная, Вода кипела ледяная. Хотелось бурю вызвать мне, И вот я, подойдя к сосне, Осуществил свою затею (Об этом я теперь жалею). Неосторожностью греша, Облил я камень из ковша, И мигом небо омрачилось. Непоправимое случилось. Я, поглядев на небосклон, Был молниями ослеплен. Дождь, град и снег одновременно, Убит я был бы непременно, Я не остался бы в живых Среди раскатов громовых. Двоились молнии, троились, Деревья старые валились. Господь, однако, мне помог, Для покаянья дал мне срок, Гроза кругом угомонилась, И небо, к счастью, прояснилось. При виде солнечных небес Из мертвых как бы я воскрес. От радости забыл я вскоре Недавнюю тоску и горе. Благословив голубизну, Слетелись птицы на сосну, На каждой ветке птичья стая. Красивее сосна густая, Когда на ветках столько птиц. Искусней не найти певиц. Свое поет любая птица Так, что нельзя ладам не слиться В единый благозвучный строй. И, словно в церкви пресвятой, Внимая птичьей литургии, Забыл я все лады другие, И, как блаженный дурачок, Я все наслушаться не мог. Не знаю музыки чудесней, Лишь в том лесу такие песни. Вдруг слышу: скачут напролом, Как будто снова грянул гром, Как будто бы в лесах дремучих Десяток рыцарей могучих. Но появляется один Вооруженный исполин. Я сесть в седло поторопился. Мой добрый меч не затупился. Во всяких битвах до сих пор Я недругам давал отпор. Я принял вызов исполина. Летел он с быстротой орлиной, Свиреп, как разъяренный лев, И в каждом слове — лютый гнев: «Вассал! Вы дурно поступили, Вас мысли злые ослепили. Вы натворили много бед, И вам за них держать ответ! Нет, не одни раскаты грома, Все эти горы бурелома Свидетельствуют против вас. Встречаю вас я в первый раз. За что вы мне сегодня мстили? Зачем вы бурю напустили На мой прекрасный старый дом, Бесчинствуя в лесу моем? Вассал! С душой своей прощайтесь! Грозит вам гибель. Защищайтесь! Виновны вы передо мной. Своею собственной виной Преступник обречен злосчастный. Увертки были бы напрасны. Силен своею правотой, Я вызываю вас на бой. Вы мне внушаете презренье. Нет между нами примиренья!» И разыгрался бой потом, Прикрылся я своим щитом. Копье в его руках острее, Конь боевой под ним быстрее. Смотрю и вижу, сам не свой: Он выше целой головой. Тому, кто маленького роста, Высоких побеждать не просто. Удар ему нанес я в щит — Мое копье как затрещит! Так злой судьбе моей хотелось: Копье в кусочки разлетелось. Однако на коне своем Мой враг по-прежнему с копьем. В его руках не древко — древо. В припадке бешеного гнева Копьем ударил он меня, И повалился я с коня. Так потерпел я пораженье. Беспомощного, в униженье, Меня покинул враг лихой, Взяв моего коня с собой. Идти за ним я не решился, Тогда бы жизни я лишился. И смысла не было бегом Гоняться за таким врагом. И без того пришлось мне худо. Убраться только бы оттуда! Я под сосною прикорнул, Душой и телом отдохнул, Скорей совлек свои доспехи, Чтобы ходить мне без помехи, Покуда не сгустился мрак, И потащился кое-как Искать в чащобе дом старинный Гостеприимца-дворянина. До замка к ночи я добрел И там пристанище обрел. И были слуги вновь послушны, И вновь хозяева радушны. Как накануне все точь-в-точь, Приветливы отец и дочь, Я точно так же в замке встречен. Позор мой как бы не замечен, И мне по-прежнему почет Хозяин добрый воздает. Я благодарен дворянину. Благословить я не премину Его святую доброту. Такую добродетель чту И ничего не забываю. С тех пор я свой позор скрываю. И как я мог, не знаю сам, Сегодня проболтаться вам! Но так и быть! Пускай случайно, Делюсь моей постыдной тайной». «Клянусь моею головой! Такое слышу я впервой,— Ивэйн воскликнул в изумленье.— В каком досадном ослепленье Изволите вы пребывать: Годами от меня скрывать, Кузен мой, ваше пораженье! Мой долг — отнюдь не одолженье. Теперь за наш фамильный стыд Моя десница отомстит!» «Нам после сытного обеда Всегда мерещится победа,— Сказал неугомонный Кей,— Винишка доброго попей, Опорожни бочонок пива, И в бой запросишься ты живо, И победитель ты один, Тебя страшится Нурэддин. Ивэйн, скорей в седло садитесь! Вооружиться потрудитесь! Победный разверните стяг! Разбить врага — для вас пустяк. Вы всех и вся в бою затмите. С собою нас, Ивэйн, возьмите, Мы вас хотим сопровождать. Научимся мы побеждать, Когда вы доблестью блеснете. А впрочем, скоро вы заснете, И вам приснится сон плохой, И предпочтете вы покой». Сказала королева Кею: «Наверно, никакому змею Такого жала не дано. И как вам, сударь, не грешно! Такое жало горше смерти. Почтенный сенешаль, поверьте: Язык ваш — враг заклятый ваш, Коварный раб, неверный страж; Он ваши тайны расточает, Сердца друзей ожесточает Посредством ядовитых фраз, И ненавидят, сударь, вас. Когда бы мне язык подобный, Лукавый, вероломный, злобный, Он был бы мигом уличен И, как предатель, заточен. Наказывают виноватых, Привязывают бесноватых, Веревками в церквах святых Порою связывают их». «Сударыня,— Ивэйн ответил,— Наш праздник слишком свят и светел. Чтобы веселье омрачать. Сегодня ссору грех начать. Я никому не угрожаю И сенешаля уважаю. Он при дворе незаменим. Не стоит ссориться мне с ним. Предупредить, однако, смею, Что меч в руках держать умею, И все придворные подряд Охотно это подтвердят. Я никогда не лезу в драку, И не похож я на собаку, Которая не промолчит, Когда другая заворчит». Подобный разговор тянулся, Когда король Артур проснулся И вышел к рыцарям своим. Все встали молча перед ним. Монарху не на что сердиться. Он разрешил гостям садиться И, внемля разным голосам, Сел рядом с королевой сам. Потом замолкли гости снова, И королева слово в слово Пересказала без прикрас Наиправдивейший рассказ, Не уступающий роману. Благодаря Калогренану Узнал король про этот лес, Где столько кроется чудес. Внимал король и удивлялся. Дослушав, он при всех поклялся В лесу чудесном побывать, И соизволил он позвать С собою всех своих баронов, Любезностью своею тронув И добрых рыцарей, и злых, И молодых, и пожилых. Конечно, каждый согласился. Весь королевский двор просился В лесную глушь, где под сосной Бурлит источник ледяной. Придворные не замечали, Что господин Ивэйн в печали. Хотел он побывать без них В таинственных местах лесных. Ивэйну так велело мщенье. Мессир Ивэйн сидел в смущенье: Вдруг с незнакомцем вступит в бой Насмешник дерзкий, Кей лихой? Вдруг незнакомца покарает Гавэйн, который сам сгорает От нетерпения, когда Свой вызов бросила вражда? Медлительному нет прощенья. Откладывать не стоит мщенья! Мессир Ивэйн в решеньях скор. Покинуть королевский двор Без провожатых он старался. В дорогу рыцарь собирался И в это т неурочный час Оруженосцу дал приказ: «Готовь мое вооруженье! Все боевое снаряженье Понадобиться может мне. В чужой неведомой стране Мне суждено теперь скитаться. С кем предстоит мне поквитаться, Покамест я не знаю сам, Однако приключенья там И неприятельские ковы. Нужны надежные подковы В дороге моему коню, Которого я так ценю. Нам следует без промедленья Закончить все приготовленья, Чтобы не знал никто окрест Про этот спешный мой отъезд». Оруженосец отвечает: «Нет, ваш слуга не подкачает!» Ивеэн отважный рвется в бой. Он покидает замок свой. Отмстить задумал непременно Он за бесчестие кузена. Оруженосец между тем Достал кольчугу, щит и шлем. Хозяйскому послушен слову, Проверил каждую подкову, Пересчитал гвоздочки все. Конь рыцарский во всей красе, Он всадником своим гордится. Мессир Ивэйе в седло садится, Он в путь-дорогу снаряжен, Он хорошо вооружен. Не мешкал рыцарь ни мгновенья И не искал отдохновенья. Ивэйн скакал во весь опор Среди лесов, лугов и гор. Проехал много перепутий Встречал немало всякой жути В Броселиандский лес проник Разыскивая там родник, Нашел, готовясь к поединку, Среди терновника тропинку И знал уже наверняка: Он в двух шагах от родника. Неподалеку ключ гремучий С водой студеною, кипучей, И камень близко, и сосна, Которой буря не страшна. В лесу безлюдно и пустынно. В уютном замке дворянина Мессир Ивэйн заночевал, Трапезовал и почивал. С почетом рыцаря встречали, Благославляли, привечали. Сознаться можно, не греша: Была девица хороша, Благоразумна и красива, Ничуть при этом не спесива. Румянец нежный, стройный стан. Нет, не солгал Калонгенан. Покинув замок утром рано, Наш рыцарь повстречал мужлана. Неописуемый урод Пред ним стоял, разинув рот. И как натура сотворила Такое пакостное рыло? В чащобе рыцарь — начеку. Он подъезжает к роднику, Он видит ковшик на цепочке И безо всякой проволочки, Ковш наполняя в свой черед, На камень смело воду льет. И сразу налетела буря, В лесу дремучем бедокуря. Сто молний вспыхнули подряд. Холодный ветер, ливень, град. Но буря быстро миновала, И солнце восторжествовало. Лишь под сосною вековой Бурлил источник роковой, Пока на ветках птицы пели. Закончить птицы не успели Обедни радостной своей, Когда, грозы ночной слышней, Раздался топот в отдаленье, Как будто буйствуют олени, Самцы, которым что ни год Покоя похоть не дает. Из чащи рыцарь выезжает. Он проклинает, угрожает. Всепожирающим огнем Гнев лютый полыхает в нем. Ивэйн, однако, не смутился, С врагом неведомым схватился. Нет, копья не для красоты! Удар — и треснули щиты, Разваливаются кольчуги, Едва не лопнули подпруги. Переломились копья вдруг, Обломки падают из рук. Но глазом оба не моргнули, Мечи, как молнии, сверкнули. Обороняться все трудней. Щиты остались без ремней, Почти что вдребезги разбиты. Телам в сраженье нет защиты. Удары сыплются опять. Не отступая ни на пядь, В бою неистовствуют оба, Как будто бы взыскуют гроба. Нет, не вслепую рубит меч, А чтобы вражий шлем рассечь. Разят без устали десницы. Кольчуги, словно власяницы, Дырявые, свисают с плеч, И как тут крови не потечь! Пускай в сражении жестоком Людская кровь течет потоком, Тому, кто честью дорожит, В седле сражаться надлежит. При мастерстве необходимом Конь остается невредимым. Противнику пробей броню, Не повредив его коню. Не зря закон гласит исконный: В бою всегда красивей конный. Бей всадника, коня не тронь! И невредимым каждый конь В кровавом этом поединке Остался, будто на картинке. Враг покачнулся, вскрикнул враг. Ивэйн мечом ударил так, Что в мозге меч, как будто в тесте. Лоб рассечен со шлемом вместе. Мозг на доспехах, словно грязь. Судьбе враждебной покорясь, Отступит каждый поневоле, Когда темно в глазах от боли, И сердце замерло в груди, И пропадешь, того гляди. Коня пришпорил побежденный И, безнадежно убежденный В том, что проигран этот бой, Рванулся прямо в замок свой. Уже распахнуты ворота, Но не кончается охота. Ивэйн за ним во весь опор Погнался, не жалея шпор. Судьбе своей беглец перечит. За журавлем несется кречет, На пташек нагоняя жуть. Израненному когти в грудь Он, кажется, уже вонзает, Журавль, однако, ускользает. Так полумертвый был гоним. Мессир Ивэйн скакал за ним И слышал тихие стенанья. Беглец почти что без сознанья. В плен можно раненого взять. Но нет! Уходит он опять. Собою, как всегда, владея, Насмешки господина Кея Мессир Ивэйн припомнил тут. Неужто был напрасным труд? И домочадцев и соседей Он убедит в своей победе. Поверит пусть любой мужлан: Отмщен кузен Калогренан. Отстать? Что это за нелепость! Мессир Ивэйн ворвался в крепость. Людей не видно у ворот, Как будто вымер весь народ. И в незнакомые ворота Ивэйн врывается с налета. Теснее не бывает врат. Вдвоем проедешь в них навряд. Один сквозь них едва въезжает, И здесь беглец опережает Преследователя на миг: Он первым в замок свой проник. Ивэйн за ним без остановки. Вбегая в дверцу крысоловки, Крысенок в ней не усмотрел Настороженный самострел. Однако лезвие стальное Там наготове, потайное. Приманку пробовать начнешь, И беспощадный острый нож Беднягу сразу разрубает, Неосторожный погибает. Такой же смертоносный вход Вел в замок неприступный тот. Того, кто не желает мира, Дверь потайная, дверь-секира, Всегда навешенная там, Вмиг разрубала пополам. И невозможно увернуться. Не отбежать, не отшатнуться, Не проползти, не проскользнуть, От гибели не увильнуть. Ивэйну с детства страх неведом. За беглецом он скачет следом. Погонею разгорячен, Ивэйн в ловушку завлечен. Вперед всем телом он тянулся. Он беглеца почти коснулся, Почти задел его седло. Ивэйна храброго спасло Воинственное напряженье. Секира-дверь пришла в движенье,- Как будто бы сам Вельзевул Ее внезапно потянул,— Седло с размаху разрубила, Коня лихого загубила Железом дьявольским своим. Ивэйн, однако, невредим, И без единого пореза Скользнуло вдоль спины железо, На пятках шпоры отхватив. Наш рыцарь, слава богу, жив. Вскочил он, страх превозмогая. Тем временем уже другая За беглецом закрылась дверь, И не достать его теперь. Судьба завистливая злая! Взять в плен противника желая, Сам рыцарь попадает в плен Среди враждебных этих стен. Ивэйна в плен коварством взяли. Непобедимый заперт в зале. Просторный, светлый этот зал Прекрасной росписью блистал. Рисунки, краски, позолота, Художественная работа. Искусством этим восхищен, Ивэйн тревогою смущен. Отторгнутый от всей вселенной, Не тосковать не может пленный. Грустит в неволе даже зверь. Вдруг заскрипела рядом дверь, И соизволила явиться Весьма красивая девица. Из тесной горенки своей Она выходит поскорей, Увидев рыцаря в кольчуге, И говорит ему в испуге: «Ах, сударь! Вам грозит беда! Не в пору вы зашли сюда. Вы, сударь, с нашим домом в ссоре, И в нашем доме нынче горе. Смертельно ранен господин. А кто виновник? Вы один! Он корчится в предсмертной муке. Едва не наложила руки Хозяйка наша на себя, О рыцаре своем скорбя. Вы — наших горестей причина, Вы погубили господина. Боюсь, придут сюда сейчас, Чтобы прикончить, сударь, вас. Вассалы вас убьют на месте Из чувства справедливой мести», Мессир Ивэйн ответил: «Да! От них не скрыться никуда». «Ну, нет,— промолвила девица,— Отчаиваться не годится, Ведь я не выдам вас врагу. Конечно, вам я помогу. Пока в моей вы, сударь, власти, Не бойтесь никакой напасти. Я благодарна, сударь, вам И за добро добром воздам. Вы при дворе меня встречали, Меня вы часто выручали. Сгорала там я со стыда: Мне госпожа дала тогда Ответственное порученье. Уж вот мученье так мученье! Была я чересчур скромна И недостаточно умна, Всех тонкостей не разумела, Рта при дворе раскрыть не смела. Другим девицам не в пример, Стыдилась я своих манер. И только вы один вначале Меня любезно привечали. Вас, рыцарь, вмиг узнала я., Сын Уриена-короля, Ивэйном, сударь, вы зоветесь. Вы на свободу не прорветесь,— Искать вас будут здесь и там, Но повредить не смогут вам, Пока на палец ваш надето Волшебное колечко это». И, поглядев ему в лицо, Дала чудесное кольцо Девица нашему герою. Как будто дерево корою, Невидимостью облечен Счастливец тот, кому вручен Подарок этот несравненный. С таким колечком рыцарь пленный, Незримый для враждебных глаз, Пожалуй, был свободней нас. Наш рыцарь вовсе не в темнице. Попал он в горницу к девице. О чем тут, право, горевать! Роскошно застлана кровать. Найди попробуй ткань дороже! Улечься на такое ложе Австрийский герцог был бы рад. Не покрывало — сущий клад. Мессир Ивэйн проголодался. Недолго рыцарь дожидался. Девица принесла вина И жареного каплуна. Какое вкусное жаркое! Вино хорошее какое! Вино прозрачнее слезы. Наверно, лучше нет лозы. Вновь после трудностей дорожных Ивэйн отведать мог пирожных. Он яство каждое хвалил И вскоре голод утолил. Внезапно шум раздался в зале: Ивэйна рыцари искали. Врага боялись упустить, Они хотели отомстить. Того, кому они служили, В гроб домочадцы положили. Девица говорит: «Мой друг! Вы слышите галдеж и стук? Всей нашей страже приказали Разыскивать вас в этом зале. Смотрите! Вот моя кровать! Извольте сесть и не вставать! На ней спокойно вы сидите! Из горницы не выходите! Искать вас тут — напрасный труд. Пускай придут, пускай войдут, Пускай себе проходят мимо, Вы здесь находитесь незримо. Увидите, как мимо вас Несут в печальный некий час Останки нашего сеньора (Я знаю, похороны скоро). Извольте же собой владеть! На всех вы можете глядеть Невозмутимыми глазами, Когда невидимы вы сами. Однако мне теперь пора. Желаю, сударь, вам добра. Для вас я честно потрудилась, Вам, слава богу, пригодилась». Едва простился рыцарь с ней, Шум сделался еще слышней. Ввалились прямо в зал вассалы, У них в руках мечи, кинжалы, Секиры, палицы, ножи. Оруженосцы и пажи Все закоулки оглядели. Ну что за притча, в самом деле? Коня нашли мгновенно там, Разрубленного пополам, А рыцарь в руки не давался. Где спрятался? Куда девался? Он через дверь пройти не мог. Сбиваются вассалы с ног. Неужто дверка сплоховала? Она без промаха, бывало, Казнит непрошеных гостей, Отведав мяса и костей. А впрочем, дверка не повинна: За ней другая половина Коня злосчастного нашлась. Когда скотина не спаслась, Неужто всадник жив остался? И бестолково заметался По замку весь дворовый люд. Проклятья незнакомцу шлют, Кричат: «Куда бы мог он скрыться? Ведь не могли бы раствориться Такие двери все равно. Не то что в нашу дверь — в окно И птица бы не пролетела. А человеческое тело? Попробуй в щелочку пролезь! Пожалуй, не помогут здесь Наихитрейшие уловки. Ни землеройке, ни полевке, Пожалуй, здесь не проскользнуть. Накрыт гостям незваным путь. И все же к нам проникло горе, Хоть наши двери на запоре. Скончался только что сеньор. Убийца где же? Кроме шпор И кроме туши лошадиной, Улики, что ли, ни единой И в спешке не оставил он, В ловушку нашу завлечен? Найти убийцу не пора ли? Или нечистые украли Его, зловредного, у нас? Такое видим в первый раз!» В пылу бессмысленного гнева То вправо кинутся, то влево, Суют носы во все углы, Заглядывают под столы, И под кровати, и под лавки, Намяв бока друг другу в давке. Бросаются во все концы, Почти на ощупь, как слепцы, В любую дырку тычут палки, Рассудок потеряли в свалке И лишь девицыну кровать Стараются не задевать. Вассалы не подозревали, Кто там сидит на покрывале. Вдруг рыцарь наш затрепетал: Ни на кого не глядя, в зал Вошла прекраснейшая дама Она была красивой самой Среди красавиц всей земли. Сравниться с нею не могли Прекраснейшие христианки, И здешние и чужестранки. Была в отчаянье она. Своею горестью пьяна, Брела, не говоря ни слова, Убить себя была готова. Отмечен скорбью бледный лик, В устах прекрасных замер крик. Вошла, вздохнула, покачнулась, Без чувств упала, вновь очнулась, Рыдая, волосы рвала, Супруга мертвого звала. Лежал в гробу сеньор покойный. При гробе капеллан достойный, Он в облачении святом, Как полагается, с крестом. Свеча, кропильница, кадило. Как провидение судило, Бессмертный дух покинул плоть, И да простит его господь, Мессир Ивэйн внимал рыданьям. Он тронут был чужим страданьем. Подобный плач, подобный крик Не для стихов и не для книг. И посреди большого зала Придворным дамам страшно стало: Кровоточит мертвец в гробу, Алеет снова кровь на лбу — Наивернейшая примета: Убийца, значит, рядом где-то, И снова в зале беготня, Проклятья, ругань, толкотня. Так разъярились, что вспотели. Ивэйну, впрочем, на постели Досталось тоже под шумок. Отважный рыцарь наш не мог От палок длинных увернуться. Нельзя ему пошевельнуться. Вассалы бесятся, кричат, А раны все кровоточат. Мертвец как будто хмурит брови, Окрашенные струйкой крови. Сойти с ума недолго тут. Никак вассалы не поймут, Что происходит в этом зале. Переглянулись и сказали: «Когда убийца среди нас, Его, наверно, дьявол спас От нашей справедливой кары. Тут явно дьявольские чары!» И закричала госпожа, От гнева дикого дрожа, Рассудок в бешенстве теряя: «Как? Не нашли вы негодяя? Убийца! Трус! Презренный вор! Будь проклят он! Позор! Позор! Привык он действовать бесчестно. Известно было повсеместно, Что мой супруг непобедим. И кто бы мог сравниться с ним? Он был храбрец, он был красавец. Ты обокрал меня, мерзавец! Я не увижу никогда Того, кем я была горда, Того, кого я так любила. Какая только мразь убила Возлюбленного моего? Твое напрасно торжество, Ты нежить, погань, гад ползучий! Подумаешь, какой везучий! Ты призрак или дьявол сам, Твоя победа — стыд и срам, Ты трус без всяких оговорок! Эй, невидимка, призрак, морок! Сдается мне, что ты вблизи. Обманывай, крадись, грози! Тебя, мой враг, я проклинаю. Я не боюсь тебя, я знаю: Ты по своей натуре слаб. Ты жалкий трус, ты подлый раб, Ты притаился от испуга. Как? Моего сразив супруга, Явиться ты не смеешь мне? Ты, присягнувший сатане, Конечно, ты бесплотный морок! Того, кто был мне мил и дорог, Не победил бы человек. Ты наказания избег, Хранимый силой ненавистной, Ты мне противен днесь и присно!» Так проклинала госпожа Того, кто, жизнью дорожа, Почти что рядом с ней скрывался, Таился и не отзывался. Отчаяньем поражена, Совсем измучилась она, И в тягостной своей печали Вассалы верные устали Усердно шарить по углам, Перебирая всякий хлам. Исчез преступник. Вот обида! Но продолжалась панихида, И пел благочестивый хор. Уже выносят гроб во двор. За гробом челядь вереницей. Скорбит народ перед гробницей. Плач, причитания кругом. Тогда-то в горницу бегом Девица к рыцарю вбежала: «Мессир! Как я за вас дрожала! Боялась я, что вас найдут. Искали вас и там и тут, Как пес легавый — перепелку, Но, слава богу, все без толку! «Досталось мне,— Ивэйн в ответ,— Но только трусу страх во вред. Я потревожился немножко И все-таки хочу в окошко Или хоть в щелочку взглянуть, Каким последний будет путь Столь безупречного сеньора. Конечно, погребенье скоро!» Ивэйну не до похорон. К окну готов приникнуть он, Нисколько не боясь последствий, Пускай хоть сотни тысяч бедствий Неосторожному грозят За ненасытный этот взгляд: Привязан сердцем и очами Мессир Ивэйн к прекрасной даме, Навеки дивный образ в нем. И постоять перед окном Ему позволила девица. Ивэйн глядит не наглядится. Рыдая, дама говорит: «Прощайте, сударь! Путь открыт Вам, сударь, в горние селенья С господнего соизволенья. Пускай замолкнет клевета! Вы, господин мой, не чета Всем тем, кто в наше злое время Еще вдевает ногу в стремя. Вы, сударь, веку вопреки, Душою были широки, И основное ваше свойство — Неколебимое геройство. Кто мог бы с вами здесь дружить? Дай бог вам, сударь, вечно жить Среди святых, среди блаженных, Среди созданий совершенных!» Отчаяньем поражена Рыдает скорбная жена, Свой несравненный лик терзает, Себя жестоко истязает, Как будто горе все сильней. Ивэйн едва не вышел к ней. Благоразумная девица Ему велит остановиться И говорит: «Нет, рыцарь, нет! Вы позабыли мой совет! Куда вы? Стойте! Погодите! Отсюда вы не выходите! Извольте слушаться меня! На вас надежная броня. Невидимость — вот ваши латы. Бояться нечего расплаты, Судьба победу вам сулит, Надежда душу веселит. В союзе с мудростью отвага Восторжествует вам на благо. Хранимы вы самой судьбой. Следите только за собой, За языком своим следите! Не то себе вы повредите. По-моему, не так уж смел Тот, кто сдержаться не сумел, Кто, наделенный вздорным нравом, Пренебрегает смыслом здравым. Таит безумие храбрец И поступает, как мудрец. Безумию не поддавайтесь! Предусмотрительно скрывайтесь! Не заплатить бы головой Вам за проступок роковой! Свои порывы побеждайте, Мои советы соблюдайте! Соображайте сами впредь! За вами некогда смотреть Мне в этот час, когда придворный В своей печали непритворной Сеньора должен хоронить. Чтобы себя не уронить, Чтобы не вызвать подозренье, Я тороплюсь на погребенье». Ушла. Глядит Ивэйн в окно. Что хочешь делай, все равно Из рук навеки ускользает Все то, на что он притязает,— Вернее, мог бы притязать,— Дабы победу доказать, Одним свидетельством бесспорным Всем злопыхателям придворным Заткнув завистливые рты Во избежанъе клеветы. Куда теперь ему деваться? Кей снова будет издеваться. Ему прохода Кей не даст. Всегда на колкости горазд, Насмешник этот родовитый Язык имеет ядовитый, До глубины души доймет. Но как он сладок, новый мед, Еще неведомые соты, Неизреченные красоты Любви, которая царит В сердцах, где чудеса творит. Весь мир Любовь завоевала, Повсюду восторжествовала Она без боя и в бою, И в ненавистницу свою Ивайну суждено влюбиться, И сердцу без нее не биться, Хоть неизвестно госпоже, Что за покойника уже Она жестоко отомстила: Убийцу дерзкого прельстила. Смертельно ранит красота, И нет надежного щита От этой сладостной напасти. И жизнь и смерть не в нашей власти. Острее всякого клинка Любовь разит наверняка. Неизлечима эта рана. Болит сильнее, как ни странно, Она в присутствии врача, Кровь молодую горяча. Ужасней всякого гоненья Неизлечимые раненья. Ивэйн Любовью побежден, Страдать навеки осужден. Любовь могла бы, как известно, Обосноваться повсеместно. И как Любви не надоест Блуждать среди различных мест, Оказывая предпочтенье Обителям, где запустенье? Как бы не ведая стыда, Она вселяется туда, Уходит и спешит обратно Стократно и тысячекратно, Жилья не бросит своего. Такое это божество: И в запустенье обитает, Убожество предпочитает, Довольная своим гнездом, Как будто в наилучший дом Она торжественно вселилась И всей душой возвеселилась. С высот нисходит прямо в грязь Любовь, нисколько не стыдясь. Так что нельзя не изумиться: Любовь небесная срамится, Разбрызгивая здесь и там В зловонном прахе свой бальзам, Цветет на самом скверном месте, И ей позор милее чести. Ее стряпню изволь вкушать! И к желчи сахар подмешать Порою пробует и даже Подбавить меду к черной саже. Любовь преследует царей, Подвластен каждый рыцарь ей, Смиренно служат ей монахи, И перед нею дамы в страхе. Любовь за горло всех берет, И знает каждый наперед Псалтырь Любви, псалмы святые. Читайте буквы золотые! Мессир Ивэйн перед окном. Он помышляет об одном, В мечтах отрадных забываясь. Ивэйн глядит не отрываясь На несравненный этот лик. Прекрасней дама что ни миг, Идет печаль прекрасной даме., Владеет красота сердцами, И можно только тосковать, Не смея даже уповать. Влюбленный думает, гадает И сам с собою рассуждает: «Нет, я, конечно, сумасброд, Во мне безумье верх берет. Опасней в мире нет недуга. Смертельно ранил я супруга И завладеть хочу вдовой. Вот замысел мой бредовой! Казнить она меня мечтает. Какую ненависть питает Она ко мне сегодня! Да, Однако женская вражда В один прекрасный день минует. Мою красавицу взволнует Иная пылкая мечта, У каждой дамы больше ста. Различных чувств одновременно. Меняются они мгновенно. Нельзя надежду мне терять, Фортуне лучше доверять. Не знаю, что со мной творится, Любви готов я покориться. Ослушник был бы заклеймен. До самого конца времен Все говорили бы: предатель! Так помоги же мне, создатель! Благословляю госпожу, Навеки ей принадлежу. Скорей бы мужа позабыла, Скорей бы только полюбила Лихого своего врага. О, как она мне дорога! И я врагом ее считаюсь? Оправдываться не пытаюсь. Ее супруг был мной сражен. Прекрасней нет на свете жен, Красавиц краше не бывает. Когда Любовь повелевает, Не подчиниться — стыд и срам. Мою любовь я не предам. Любви смиренно повинуясь, Я говорю, не обинуясь: Ей друга не найти верней. И пусть я ненавистен ей, На ненависть я отвечаю Одной любовью и не чаю Иной награды, лишь бы мне Служить пленительной жене. Зачем она себя терзает И как, безумная, дерзает Рвать золотистые власы, Подобной не щадя красы? Нет, не со мной она враждует. Она как будто негодует На собственную красоту. Ее счастливой предпочту Увидеть, если так прекрасна Она в тоске своей напрасной. Зачем она себя казнит И не щадит своих ланит, Желанных, сладостных и нежных, И персей этих белоснежных? Мою красавицу мне жаль. Конечно, никакой хрусталь С прозрачной кожей не сравнится. Натура — божья ученица. Однако что и говорить! Решив однажды сотворить Прекрасное такое тело, Натура бы не преуспела, Когда бы, тварь свою любя, Не превзошла сама себя. Бог сотворил своей рукою Мою владычицу такою, Чтобы Натуру поразить И сердце мне навек пронзить. Тут сомневаться неприлично. Не мог бы сам господь вторично Такое чудо сотворить. Нельзя шедевра повторить». Обряд кончается печальный, Народ уходит подначальный, Двор постепенно опустел. Когда бы только захотел Наш рыцарь славный на свободу, Его внезапному уходу Не мог бы недруг помешать. Ему бы впору поспешать,— Открыты двери и ворота. Совсем, однако, неохота Ивэйну замок покидать, Ивэйн предпочитает ждать. Когда девица возвратилась, Она как будто спохватилась: «Как, сударь, время провели?» «От всяких горестей вдали, Понравилось мне в этом зале». «Что, господин мой, вы сказали? Понравилось вам тосковать И жизнью вашей рисковать? Быть может, сударь, вам по нраву, Когда кровавую расправу Над вами учиняет враг?» «Нет, милая моя, не так. Отнюдь не смерть меня прельстила. Надежду жизнь мне возвестила, Как только смерти я избег. Не разонравится вовек То, что понравилось мне ныне». «Конечно, толку нет в унынье. Не так уж, сударь, я глупа И, слава богу, не слепа,— Ивэйну молвила девица.— Чему тут, сударь мой, дивиться! А впрочем, заболтались мы. Из вашей временной тюрьмы Вам выйти можно на свободу». «Там во дворе толпа народу,— Мессир Ивэйн сказал в ответ.— Спешить сегодня смысла нет. Еще погонятся за мною. Грех красться мне порой ночною!» Наш рыцарь в замке как в раю. Девица в горенку свою Ивэйна пригласила снова За неимением иного Приюта для таких гостей. Там в ожиданье новостей Остался рыцарь утомленный. Была достаточно смышленой Девица, чтобы в сей же час Уразуметь без липших фраз, Какая благостная сила Ивэйна в зале покорила, Преобразив его тюрьму, Когда грозила смерть ему. Девица шустрая, бывало, Советы госпоже давала. Не допустив ни тени лжи, Наперсницею госпожи Ее нередко называли. Молчать она могла едва ли, Когда для присных не секрет, Что госпоже печаль во вред. Девица наша не смутилась. Она к хозяйке обратилась: «Хочу, сударыня, спросить: Вы господина воскресить Своей надеетесь тоскою?» «Ах, что ты! Нет, но я не скрою: Сама хочу я умереть!» «Зачем, скажите?» — «Чтобы впредь Не разлучаться с ним!» — «О боже! Так сокрушаться вам негоже, Когда получше муженька Бог вам пошлет наверняка!» «Молчи! Не нужно мне другого!» «Я замолчать всегда готова. И почему не промолчать, Чтоб госпожу не огорчать. Я не пускаюсь в рассужденья, Но ваши, госпожа, владенья Какой воитель защитит? Пусть вам замужество претит, Пройдет еще одна седмица, И к замку войско устремится, По нашим рыская лесам. Король Артур прибудет сам В сопровожденье целой свиты. Источник требует защиты, Меж тем супруг скончался ваш. Высокородная Соваж В письме своем предупреждает, Что короля сопровождает Цвет рыцарства, тогда как нам В придачу к дедовским стенам Достались воины плохие. Все наши рыцари лихие Не стоят горничной одной, Когда грозит нам враг войной. Все наши рыцари исправны, Однако слишком благонравны И, что бы ни произошло, Сесть не осмелятся в седло, Предпочитая разбежаться, Когда приказано сражаться». Казалось бы, сомнений нет. Однако правильный совет Принять без всяких разговоров Не позволяет женский норов. Упрямством женщина грешит. Отвергнуть женщина спешит Все то, что втайне предпочла бы. Прекраснейшие дамы слабы. И закричала дама: «Прочь! Меня ты больше не морочь! Мне речь такая докучает!» «Ну, что ж,— девица отвечает,— Пожалуй, замолчать не грех, Раз вы, сударыня, из тех, Кого советы раздражают, Когда несчастья угрожают». Девицу дама прогнала, Однако быстро поняла, Что поступает безрассудно, Хотя признаться в этом трудно. Впредь нужно действовать мудрей. Узнать бы только поскорей, Кто этот рыцарь, столь достойный, Что не сравнится с ним покойный. Душою лишь бы не кривить И разговор возобновить. Терпенья, что ли, не хватило? Не выдержала, запретила, Вперед желая забежать, Она девице продолжать. Девица вскоре, слава богу, Пришла хозяйке на подмогу И продолжала разговор Как будто бы наперекор. «Хоть не к лицу мне забываться, По-моему, так убиваться — Пусть госпожа меня простит — Для знатной дамы просто стыд. И если рыцарь погибает, По-моему, не подобает Весь век скорбеть, весь век рыдать. С собою нужно совладать, О новом помышляя муже. Найдутся рыцари к тому же, Чья доблесть мертвого затмит. Напрасно вас печаль томит!» «Ты лжешь! Всему своя граница. Никто не мог бы с ним сравниться! И ты скажи попробуй мне, Кто с ним сегодня наравне!» «Молчать мне, правда, не годится. А вы не будете сердиться?» «Нет, говори, я не сержусь». «Для вас я, госпожа, тружусь. Свою служанку не хвалите! Вы только соблаговолите Стать вновь счастливой в добрый час, Облагодетельствовав нас. Могу продолжить без запинки. Два рыцаря на поединке. Кто лучше? Тот, кто побежден? По-моему, вознагражден Всегда бывает победитель, Хоть рядовой, хоть предводитель. А кто, по-вашему, в цене?» «Постой, постой, сдается мне, Меня ты заманила в сети». «Ведется так на белом свете. Извольте сами рассудить: Дано другому победить В сраженье вашего супруга. Пришлось в бою сеньору туго, И скрылся в замок наш сеньор. Напоминанье — не укор, И заводить не стоит спора. Отважней нашего сеньора Тот, кто сеньора победил». «Язык твой злой разбередил Мою мучительную рану. Нет, больше слушать я не стану; Ты хочешь боль мне причинить. Не смей покойника чернить, Иначе горько пожалеешь, Сама едва ли уцелеешь!» «Итак, по правде говоря, Я с вами рассуждала зря. Я госпоже не угодила, Хоть госпожу предупредила: Не сладко слушать будет ей. Конечно, впредь молчать умней». И поскорей — в свою светлицу, Где ждал мессир Ивэйн девицу. Девица гостю своему Немного скрасила тюрьму. Однако рыцарь наш томится, К своей возлюбленной стремится, Не знает пылкий наш герой, Как в первый раз и во второй Девица счастья попытала И за него похлопотала. Не может госпожа заснуть, И ночью глаз ей не сомкнуть. Ах, как ей нужен покровитель! Какой неведомый воитель Источник дивный защитит? Несчастье кто предотвратит, Когда несчастье угрожает? Она девицу обижает, На ней одной срывает зло, Когда на сердце тяжело И на душе не прояснилось, А все-таки не провинилась Девица перед госпожой. Должно быть, рыцарь тот чужой И впрямь герой — на то похоже. Девице госпожа дороже Любых проезжих молодцов. Совет хорош, в конце концов. С девицей нужно помириться, Когда девица — мастерица Советы мудрые давать. А как бы рыцаря признать — Нот, но на тайное свиданье — На суд, в котором оправданье Высоких доблестей таких В глазах завистливых людских. Отвагу каждый уважает. Перед собой воображает Она влюбленного врага, До невозможности строга. «Добиться правды постараюсь. Убийца ты?» — «Не отпираюсь. Да, ваш супруг был мной сражен». «Жестокостью вооружен, Ты мне желал тогда худого?» «Сударыня, даю вам слово, Скорее умер бы я сам!» «Благодаренье небесам! В тебе не вижу я злодея. Своим оружием владея, Ты мужа моего сразил, Который сам тебе грозил. Отвага, стало быть,— не злоба. И, очевидно, правы оба. И справедлив мой суд земной: Ты не виновен предо мной». Нередко в жизни так бывает: Огня никто не раздувает, Огонь, однако, не заснул И сам собою полыхнул. Неугомонная девица Теперь могла бы убедиться В конечном торжестве своем. Девица с госпожой вдвоем Наутро, как всегда, осталась И речь продолжить попыталась (Ей, говорливой, не впервой). И что ж? С повинной головой, Как проигравшая сраженье, В благоразумном униженье Предстала дама перед ней. Ей, госпоже, всего важней, Свое лелея упованье, Происхожденье и прозванье Чужого рыцаря узнать: «Извольте, милая, принять Почтительные извиненья. Я согрешила, без сомненья. Я как безумная была, Простительна моя хула. Я вам готова подчиниться, Навек я ваша ученица. Скажите: храбрый рыцарь тот От предков знатных род ведет? Тогда… Что делать, я согласна. И я сама ему подвластна, И вся моя земля со мной, Спасенная такой ценой, Чтобы меня благодарили И за глаза не говорили: «Убийцу мужа избрала!» «Благому господу хвала! — Девица даме отвечала.— Из всех, чей род берет начало От Авеля, он лучший!» — «Да? А как зовут его тогда?» «Ивэйном».— «Рыцарь безупречный! Никто не скажет: первый встречный! Мессир Ивэйн, слыхала я, Сын Уриена-короля?» «То, что вы слышали, не ложно». «Когда его увидеть можно?» «Дней через пять».— «Чрезмерный срок! И поспешить бы рыцарь мог, Когда за ним я посылаю. Ивэйна видеть я желаю Не позже завтрашнего дня». «Где, госпожа, найти коня, Который устали не знает, Небесных пташек обгоняет? А впрочем, есть один юнец. Он, быстроногий мой гонец, Готов помчаться что есть мочи, Чтобы добраться завтра к ночи До королевского двора…» «Ему отправиться пора И надлежит поторопиться! Ночами все равно не спится, Такая полная луна! Дорога при луне видна, А тот, кто силы напрягает, Все тяготы превозмогает. При помощи ночных светил Два дня в один бы превратил Гонец, уверенный в награде». «Не беспокойтесь, бога ради! Проворному бежать не лень. Я думаю, на третий день Предстанет рыцарь перед вами С почтительнейшими словами. Но прежде чем торжествовать, Вассалов следует созвать (По помешает свадьбе гласность). Какая нам грозит опасность, Скажите без обиняков, И убедитесь вы, каков Народец этот малодушный. Вассалы будут вам послушны. Не только сам король Артур — Любой придворный балагур Их всех пугает не на шутку. Скажите вы, что, вняв рассудку, Замужество вы предпочли Бесчестию своей земли. В подобном бракосочетанье —• Желанное предначертанье Судьбы, спасительной для них. Ваш непредвиденный жених Им даст возможность не сражаться. Им лишь бы только воздержаться От столкновений боевых, Оставшись как-нибудь в живых. Тот, кто своей боится тени, Падет пред вами на колени, Благословляя госпожу». «Я так же, как и вы, сужу,— Сказала дама,— я согласна. Вы рассуждаете прекрасно. Во избежанье тяжких бед Я принимаю ваш совет. Так что же вы? Поторопитесь! Пожалуйста, вы не скупитесь. Пусть будет ваш посланник скор!» На этом кончен разговор. Тогда девица притворилась, Что с посланным договорилась. Окончив срочные дела, Девица в горницу пошла. Она Ивэйна умывает, Причесывает, одевает. Идет ему багряный цвет. Наш рыцарь в мантию одет, И отороченная белкой, Ткань блещет редкостной отделкой. На мантии роскошной той Аграф сверкает золотой И драгоценные каменья. Благопристойность и уменье Такие чудеса творят. Отлично смотрится наряд. Ивэйну службу сослужила И сразу даме доложила: «Вернулся верный мой гонец». «Ах, слава богу! Наконец! Сам рыцарь явится когда же?» «Он здесь».— «Он здесь? Не надо стражи! Не говорите никому О том, что я его приму». Девица торжество скрывает И радость преодолевает. Девица гостю говорит, Что госпожой секрет раскрыт. «Все госпожа уразумела. Она кричит мне: как ты смела? Мессир! Она меня бранит, И упрекает, и винит. И ваше местопребыванье, И ваше славное прозванье Теперь известны госпоже, Что толку быть настороже! При этом дама заверяет, Что смертью вас не покарает. Должны предстать вы перед ней. Ведите же себя скромней! Войдите к ней вы без боязни. Мучительной не ждите казни, Хотя могу предположить: В плену придется нам пожить, К неволе долгой приучаясь, А главное, не отлучаясь Душой и телом никуда». Ответил рыцарь: «Не беда! Я не боюсь такого плена». «Я с вами буду неизменно. Скорее руку дайте мне! Поверьте, вы не в западне! Вам, сударь, плен такой по нраву, И заживете вы на славу. Нетрудно мне предугадать, Что не придется вам страдать». Девица утешать умела, Речистая в виду имела Отнюдь не просто плен — Любовь. Разумнице не прекословь! Любовь и плен друг с другом схожи: Скорбит влюбленный, пленный тоже. Тот, кто влюблен, всегда в плену. Такого плена не кляну, Неволя счастью не мешает. Меж тем девица поспешает, Ивэйна за руку держа. В своих покоях госпожа На пышном восседает ложе. И неприступнее и строже Красавица на первый взгляд, Когда приличия велят. Не говорит она ни слова, Величественна и сурова. Смельчак не то что покорен, Решил он: «Я приговорен!» Он с места сдвинуться не смеет, Язык от ужаса немеет. Девица молвила тогда: «Достойна вечного стыда Служанка, если в гости к даме Ведет она (судите сами!) Того, кто смотрит чудаком И не владеет языком, Кто даже рта пе раскрывает И поклониться забывает В смущенье, мыслей не собрав.— Ивэйна тянет за рукав.— Смелее подойдите к даме! Вас, рыцарь (это между нами), Никто не хочет укусить. Прощенья нужно вам просить, Пониже, сударь, поклонитесь, Пред госпожою повинитесь, Пал Эскладос, ее супруг. Убийство — дело ваших рук». И, словно каясь в преступленье, Упал наш рыцарь на колени: «Пускай надеяться грешно, Сударыня, я все равно С решеньем вашим примиряюсь И вам с восторгом покоряюсь». «А вдруг я вас велю казнить?» «И это должен я ценить. Я все равно доволен буду». «Как верить мне такому чуду, Когда без боя, сударь, мне Вы покоряетесь вполне, Хоть вас никто не принуждает?» «И самых сильных побеждает Та сила, что владеет мной И мне велит любой ценой, Когда возможно искупленье (Такая мысль — не оскорбление), Утрату вашу возместить, Чтоб вы могли меня простить». «Как вы сказали? Искупленье? Вы сознаетесь в преступленье? Супруга моего убить — Не преступленье, может быть?» «Так с вашего соизволенья Самозащита — преступленье? По-вашему, преступник тот, Кто недругам отпор дает? Когда бы я не защищался, Я сам бы с жизнью распрощался». «Вы, сударь, правы! Решено! Казнить вас было бы грешно. Но только я бы вас просила Сказать, откуда эта сила, Которая велела вам, По вашим собственным словам, Моим желаньям подчиняться. Садитесь! Хватит извиняться! Я вас прощаю… Впрочем, нет! Сперва извольте дать ответ!» «Не скрою, сердце мне велело, Как только вами заболело, Подобных не предвидя мук». «А сердцу кто велел, мой друг?» «Мои глаза!» — «Они болели?» «Нет, просто не преодолели Той красоты, что так чиста». «А что велела красота?» «Мне красота любить велела». «Кого же?» — «Вас!» — «Ах, вот в чем дело! Любить меня! А как?» — «Да так, Что мне других не нужно благ. Не может сердце излечиться, Не в силах с вами разлучиться, Приверженное вам одной. Навек вы завладели мной. Меня доверием почтите! Хотите, буду жить, хотите, Умру, как жил, умру, любя. Люблю вас больше, чем себя!» «Я верю, сударь, но, простите, Источник мой вы защитите?» «От всех воителей земли!» «К согласью, значит, мы пришли». А в зале между тем бароны Надежной просят обороны, Своим покоем дорожа. Проговорила госпожа: «Там, в зале, видеть вас желают. Меня вассалы умоляю Скорее замуж выходить, Беде дорогу преградить. Я поневоле соглашаюсь. Нет, отказать я не решаюсь Герою, сыну короля. Ивэйна знает вся земля». Девица молча торжествует. Достойных слов не существует. Не знаю, как повествовать! Мог рыцарь сам торжествовать. Ивэйн в блаженстве утопает. Он с госпожою в зал вступает. Там в ожиданье госпожи Бароны, рыцари, пажи. Своей наружностью счастливой, Своей осанкой горделивой Наш рыцарь всех приворожил И всех к себе расположил. Почтительно вассалы встали И торопливо зашептали: «По всем статьям достойный муж! Изъян попробуй обнаружь! Вот это дама! Скажем смело, Найти защитника сумела. Кому претит подобный брак, Тот государству лютый враг. И римская императрица Такому гостю покорится. Не будем даму огорчать. Их можно было бы венчать Хоть нынче, рассуждая здраво». Садится дама величаво. Почел бы рыцарь наш за честь У ног ее смиренно сесть. Но госпожа не позволяет, Сесть рядом с нею заставляет. Когда замолк обширный зал, Вассалам сенешаль сказал: «Король идет на нас войною, И этой новостью дурною Делюсь я с вами, господа. Вот-вот нагрянет он сюда, Наш край родной опустошая И самых смелых устрашая. Защитник нам необходим, Иначе мы не устоим. Шесть лет не знали мы печали, Шесть лет назад перевенчали Сеньора с нашей госпожой. Всегда выигрывал он бой И не боялся нападенья. И что ж! Теперь его владенье — Тот крохотный клочок земли, Где мы сеньора погребли. Сражаться даме не пристало. Кровопролитный блеск металла Не для прекрасных женских рук. Хороший нужен ей супруг, И возместятся все потери. Лет шестьдесят, по крайней мере, Такой обычай здесь царил, И нас пришелец не корил». «Спасите»,— дружно все взмолились И в ноги даме повалились. Вздохнув, красавица сдалась. Подождала и дождалась. Она бы вышла замуж, впрочем (Мы вас нимало не морочим), И всем советам вопреки. «Вот кто просил моей руки,— Сказала дама,— рыцарь славный, В любом сраженье воин главный. Желает рыцарь мне служить, И следует нам дорожить Великодушным предложеньем, Особенно перед сраженьем. Он был мне прежде незнаком. О смелом рыцаре таком Я только слышала, не скрою Нет, не вредит молва герою, И за глаза его хваля. Сын Уриена-короля, Ивэйн отважный перед вами. Теперь вы посудите сами, Насколько знатен мой жених, Но только женихов иных Всех без изъятья презираю, Из всех Ивэйна выбираю». В ответ вассалы говорят: «Благому делу каждый рад! Сегодня лучше повенчаться, Пора венчанию начаться. Грех потерять единый час, Поторопитесь ради нас!» И снова дама притворилась, Что поневоле покорилась Советам, просьбам и мольбам. Я думаю, понятно вам: Когда Любовь поторопила, Покорно дама уступила Самой Любви, не людям, нет, Хоть настоятельный совет И просьбы всей придворной знати Пришлись, конечно, тоже кстати. Известно было с давних пор: Чтобы скакать во весь опор, Нередко требуются шпоры. Подхлестывают уговоры. Итак, разумный сделан шаг. Вступила дама в новый брак С благословенья капеллана. Ей ложе брачное желанно. Мессир Ивэйн — теперь супруг Самой Лодины де Ландюк, Той гордой дамы, чей родитель, Когда-то славный предводитель, Великий герцог Лодюнет В поэмах и в стихах воспет. На свадьбу прибыли прелаты. Не только здешние аббаты, Сюда со всех концов страны Епископы приглашены. Ивэйна люди прославляют, Сеньором новым объявляют. Тот, кто Ивэйном был сражен, Уже в забвенье погружен. На свадьбу мертвые не вхожи, И победитель делит ложе С благоразумною вдовой. Милее мертвого живой. Ночь миновала. Рассветает. Наутро в замок долетает Не слишком радостная весть. В лесной глуши гостей не счесть. Над родником король со свитой, С ним Кей, насмешник ядовитый, Готовый сбить с придворных спесь. Двор королевский тоже здесь. Промолвил Кей: «Куда девался И вэйн, который вызывался Источник первым навестить И за кузена отомстить? Известно всем, что страх неведом Тому, кто выпьет за обедом. Наш рыцарь выпил, закусил И, как ведется, зафорсил. Ивэйну показаться стыдно, Вот почему его не видно. Ивэйн в припадке хвастовства, Конечно, жаждал торжества, Однако преуспел едва ли, Другие восторжествовали. Кто храбрым сам себя назвал, Тот незадачливый бахвал. Других считая дураками, Бахвалы треплют языками, О подвигах своих кричат, Тогда как храбрые молчат, Тем, кто в сраженьях побеждает, Хвала людская досаждает. Зато бахвал готов приврать, Чтобы в героя поиграть. Герольды смелых прославляли И без вниманья оставляют, Как никудышную труху, Бахвалов, преданных греху». Гавэйн друзей не забывает, Он сенешаля прерывает: «Вы остроумны, как всегда. Не ведаете вы стыда. Однако, сударь, извините! Зачем вы рыцаря черните, Который неизвестно где? Быть может, он теперь в беде!» «Нет, сударь, вас я уверяю: Впустую слов я не теряю, А то бы я весь век молчал»,— Насмешник дерзкий отвечал. Король при этом не зевает, Водой студеной обливает Чудесный камень под сосной. И сразу же в глуши лесной Дождь, град и снег одновременно, И появляется мгновенно Могучий рыцарь на коне, Готовый к яростной войне. С врагом сразиться Кей желает. Король охотно позволяет И говорит ему в ответ: «Немыслим был бы мой запрет!» Намереваясь отличиться, В седле заранее кичится Кей, столь воинственный на вид. При нем копье, и меч, и щит. Кровь перед битвою взыграла. Когда бы только в щель забрала Кей мог противника узнать, Он был бы счастлив доконать Ивэйна в этом столкновенье. Бой закипел в одно мгновенье. Как рыцарский велит закон, Берут противники разгон, Чтобы не тратить время даром И все решить одним ударом. Когда столкнулся копь с конем, Нанес Ивэйн удар копьем. Кей в воздухе перевернулся И, полумертвый, растянулся. Ивэйн берет себе коня. Обычай рыцарский храня, Лежачего не добивает И не корит — увещевает «Скажу я первый: поделом! При вашем, сударь, нраве злом Вы всех бессовестно чернили. Урон себе вы причинили. Надеюсь, нынешний урок Вам образумиться помог». Ведя спокойно за собою Коня, захваченного с бою, Ивэйн промолвил королю: «Я, государь, коня хвалю, Однако вы коня возьмите, Свое добро назад примите!» «А как вас, рыцарь, величать?» «Я не посмею промолчать. Как подобает, вам отвечу, Благословляя нашу встречу». Мессир Ивэйн себя назвал И вновь сердца завоевал. Кей над придворными глумился И сам сегодня осрамился. Ивэйн разделал в пух и прах Того, кто всем внушает страх. Кей-сенешаль один тоскует, Весь королевский двор ликует. Мессир Гавэйн счастливей всех. Гавэйна радует успех, Которого Ивэйн добился. Ивэйн Гавэйну полюбился. Известно всем давным-давно: Ивэйн с Гавэйном заодно. Наш рыцарь сроду не был скрытным. Поведал рыцарь любопытным О том, как в битве победил, О том, как в замок угодил, Как помогла ему девица (Весь королевский двор дивится), Как в замке с некоторых пор Он повелитель, он сеньор, Плоды сладчайшие вкушает, И в заключенье приглашает Он государя погостить, Поскольку можно разместить Всех рыцарей и всех придворных В покоях светлых и просторных. Король Артур отнюдь не прочь. Не только нынешнюю ночь Он в замке проведет охотно, В гостях пируя беззаботно. Неделю можно погостить. Ивэйн супругу известить Заблаговременно желает, Сокольничего посылает Он прямо в замок, чтобы там Обрадовались новостям. Ивэйном госпожа гордилась, Счастливая, распорядилась Гостей торжественно встречать, Монарха в замке привечать. Встречали короля Бретани Благонадежные дворяне, И на испанских скакунах Бароны, стоя в стременах, С почетом короля встречали. Вассалы радостно кричали: «Добро пожаловать, король! Тебя приветствовать позволь! Гостям желанным честь и слава! Народ повсюду, слева, справа, Народ шумит, народ кричит, Навстречу музыка звучит. Дорога застлана шелками, Как будто небо облаками, И под копытами ковры, И, защищая от жары, Висят повсюду покрывала. Подобных празднеств но бывало. Когда, прогнав заботу вон, Певучий колокольный звон Все закоулки оглашает, Он гром небесный заглушает, Пускаются девицы в пляс. Какое пиршество для глаз! Кругом веселые погудки, Литавры, барабаны, дудки, Прыжки забавников-шутов. Возликовать весь мир готов, Сияют радостные лица. Одета дама, как царица. Нарядов не сыскать пышней. Сегодня мантия на ней, Мех драгоценный горностая. Венец, рубинами блистая, Красуется на белом лбу. Благословить могли судьбу Все те, кто даму видел ныне. Она прекраснее богини. Когда приблизился король, Свою ответственную роль Сыграть красавица старалась, Гостеприимно собиралась Монарху стремя подержать. Услуг подобных избежать Король галантный не преминул, Поспешно сам седло покинул. Сказала дама: «Государь — Здесь гость желанный, как и встарь. Наш замок удостойте чести Вы, государь, и с вами вместе Мессир Гавэйн, племянник ваш, Владений ваших верный страж». Красавице король ответил: «Да будет неизменно светел Ваш, госпожа, прекрасный лик, Чей свет я только что постиг. Дай бог, чтобы осталось цело Прекрасное такое тело». Он праздника не омрачил, В объятья даму заключил По предписаньям этикета, И дама оценила это. И продолжались торжества. Что делать! Все мои слова В подобных случаях бледнеют И, недостойные, тускнеют. Повествованье жаль бросать. Я постараюсь описать Благоразумным в назиданье Не просто встречу,— нет, свиданье (Все краски в мире мне нужны),— Свиданье солнца и луны. Повествованью не прерваться. Достоин солнцем называться Тот, кто над рыцарством царит, Чистейшим пламенем горит. Я продолжаю, как умею. Гавэйна я в виду имею. Он солнцем рыцарству светил, Все добродетели вместил. Всю землю солнце освещает, Святую правду возвещает. И полуночница лупа От солнца по удалена. Однажды солнцем восхитилась И тем же скотом засветилась, Согрелась, если не зажглась. Луна Люнеттою звалась. Красивая девица эта, Темноволосая Люнетта, Была любезна и умна, И без труда к себе она Гавэйна вмиг расположила. Гавэйна с ней судьба сдружила. И, но сводя с девицы глаз, Он выслушал ее рассказ, Правдивый с самого начала. Разумница не умолчала О том, как с помощью кольца Отчаянного храбреца От лютой гибели спасала. Все достоверно описала: И как задумала, и как Ускорила счастливый брак, Значенья не придав помехам. Гавэйн смеялся громким смехом. Ему понравился рассказ. «На все готов я ради нас,— Он молвил,— если вы не против, Гавэйна к службе приохотив, Считайте рыцарем своим Того, кто был непобедим, Как я считаю вас моею. Помыслить о других не смею». Разумница благодарит. «Спасибо, сударь»,— говорит. Одну из всех избрать не просто, Когда прелестниц девяносто. Ничуть не меньше было там Предупредительнейших дам Знатнейшего происхожденья, И все сулили наслажденье. Одну Гавэйн своей назвал, Гавэйн других не целовал. Он всем одну предпочитает И с нею время коротает, Покуда в замке пир горой И в первый день, и во второй. Уже кончается седмица, Но разве можно утомиться, Когда нельзя не пировать? Сумела всех очаровать Очаровательная дама, Хотя сказать я должен прямо: Напрасно в них кипела кровь. Любезность — это не любовь. Однако время распрощаться И восвояси возвращаться. В гостях годами не живут. Король и рыцари зовут С собой Ивэйна в путь обратный, Его прельщая жизнью ратной. «Неужто, сударь, вы из тех, Кто слишком падок до утех,— Гавэйн промолвил,— кто женился И раздобрел и облепился? И вы — супруг, и вы — сеньор! Не что иное, как позор В покое брачном затвориться! Сама небесная царица Подобных рыцарей стыдит. Блаженство, сударь, вам вредит. Вам рыцарствовать недосужно? Нет, совершенствоваться нужно, Красавицу завоевав. Скажите, разве я не прав? На помощь разум призовите И недоуздок ваш порвите! Проститься лучше вам с женой И снова странствовать со мной. Свою же славу защищайте! Турниры, друг мой, посещайте! Силен в науке боевой Тот, кто рискует головой. Слывет изнеженность виною. Вам надлежит любой ценою Себя в турнирах закалить, Чтоб слишком нежным не прослыть. Былую приумножьте славу! Затеем бранную забаву, Потешим смелые сердца! Останьтесь нашим до конца! Извольте внять предупрежденью: Вредит привычка наслажденью. Мой друг, в придачу к торжествам Разлука — вот что нужно вам. Подобный опыт пригодится, Чтобы полнее насладиться. Рассудок здравый говорит: Тем жарче дерево горит, Чем долее не разгоралось И сохранить себя старалось. Гораздо жарче будет впредь Любовь законная гореть, Когда разумный срок промчится. Советую вам разлучиться! Друг-рыцарь! Я не стану лгать: Любовь свою превозмогать, Как вам, пришлось бы мне с тоскою, Когда красавицей такою Мне довелось бы обладать. Красавиц трудно покидать. Господь — свидетель! Может статься, В безумье легче мне скитаться. Но лучше рыцарь-сумасброд, Чем проповедник жалкий тот, Который сразу нарушает Все то, что сам провозглашает». Гавэйн Ивэйна пристыдил И наконец-то победил. Готов наш рыцарь согласиться. Он только хочет отпроситься Перед отъездом у жены, Как поступать мужья должны. Волнение превозмогая, Ивэйн промолвил: «Дорогая! Вы — жизнь моя, моя душа. Ни в чем пред вами не греша, Рискуя честью поплатиться, Я вынужден к вам обратиться!» «Извольте, сударь, продолжать! Не смею вам я возражать, Похвальны ваши устремленья». И просит рыцарь позволенья Уехать на короткий срок, Тогда бы доказать он мог На всяком рыцарском турнире, Кто самый лучший рыцарь в мире. Честь нужно рыцарю хранить. Иначе неженкой дразнить Начнут счастливого супруга, Как жертву вечного досуга. Сказала дама: «Так и быть! Но вас могу я разлюбить. Когда вы в срок не возвратитесь, Навек со мной вы распроститесь. Вы поняли меня? Так вот: В распоряженье вашем год. Во избежание обмана Ко дню Святого Иоанна Седмицу присовокупим И клятвой договор скрепим. Год проведу я в ожиданье. Однако, сударь, опозданье (Я говорю в последний раз) Моей любви лишает вас». Ивэйна скорбь одолевает. Наш рыцарь слезы проливает. Вздыхает он: «Ужасный срок! Как жаль, что я не голубок. Я прилетал бы то и дело, Тогда бы сердце не болело. Нельзя мне в небесах летать, О крыльях можно лишь мечтать. Извилисты пути мирские. Бог весть, опасности какие В дороге могут угрожать. Скитальца могут задержать Болезнь, ранение, леченье, Безжалостное заключенье В жестоком вражеском плену. К вам в сердце я не загляну, Но где же наше состраданье? И это — просто опозданье?» Сказала дама: «В добрый час! Могу заверить, сударь, вас: Невзгоды бог предотвращает. Влюбленных, тех, кто обещает И обещание хранит, В дороге бог оборонит. Свои сомнения уймите! Кольцо мое с собой возьмите!’ Но забывайте обо мне И победите на войне! Кто не забыл своей супруги, Тот не нуждается в кольчуге. Кто дышит верностью одной, Тот сам железный, сам стальной. Какой там плен, какая рана! Любовь — надежная охрана!» Ивэйн в слезах простился с ней. Пора садиться на коней. Попробуйте не разрыдаться! Но может больше дожидаться Столь снисходительный король. Рассказ мне причиняет боль, Как будто сам я, повествуя, Вкушаю горечь поцелуя, Когда к непрошеным слезам Примешан гибельный бальзам. Копыта конские стучали. Ивэйн в тоске, Иэйн в печали. Год безотрадный впереди. Какая пустота в груди! Отправилось в дорогу тело, А сердце в путь не захотело. Не избежавшее тенет, К другому сердцу сердце льнет. Все это любящим знакомо. Ивэйн оставил сердце дома. Своих тенет оно не рвет, И тело кое-как живет, Пока душою обладает, Томится, бедствует, страдает. Кого угодно удивит Невероятный этот вид: Без сердца двигается тело. Несчастное осиротело. Не повинуется уму, Влечется к сердцу своему, Блуждает, бренное, в надежде Соединиться с ним, как прежде. Разлука сердце бередит, На свет отчаянье родит. Отчаянье беду пророчит, Сбивает с толку и морочит На перепутиях дорог, И позабыт предельный срок. Пропущен срок, и нет возврата: Непоправимая утрата! Я полагаю, дело в том, Что, странствуя своим путем, На бой отважных вызывая И состязанья затевая, Гавэйн Ивэйна развлекал И никуда не отпускал. На всех турнирах побеждая, Свою отвагу подтверждая, Ивэйн сподобился похвал. Год незаметно миновал, Прошло гораздо больше года. Когда бы мысль такого рода Ивэйну в голову пришла! Нет! Закусил он удила. Роскошный август наступает, Весельем душу подкупает. Назначен праздник при дворе. Пируют рыцари в шатре. Король Артур пирует с ними, Как будто с братьями родными. Ивэйн со всеми пировал, От рыцарей не отставал. Внезапно память в нем проснулась, Воспоминанье шевельнулось. Свою провинность осознал, Чуть было вслух не застонал. Преступнику нет оправданья. Он подавлял с трудом рыданья, Он слезы сдерживал с трудом, Охвачен скорбью и стыдом. Безумьем горе угрожает. Как вдруг девица приезжает На иноходце вороном, Казалось, ночь настала днем. Дорога всаднице открыта. Угрюмо цокают копыта, Как будто в небо слышен гром. Зловещий конь перед шатром. Девица, сбросив плащ дорожный, Вошла походкой осторожной. О снисхождении моля, Приветствовала короля, Гавэйна храброго почтила. Погрешностей не допустила Красноречивая ни в чем (Успех девице предречем). Приказ девица исполняет, Ивэйна громко обвиняет, Бессовестного хитреца, Неисправимого лжеца. «Над госпожою надругался! Любви законной домогался — И поступил, как низкий вор. Кто скажет: это оговор? Проступков не бывает гаже. Мессир Ивэйн виновен в краже. Изменник чувствами играл И сердце госпожи украл. А тот, кто любит, не ворует. Сама Любовь ему дарует То, что презренный вор крадет. За любящим не пропадет То, что любимая вверяет. Нет, любящий не потеряет В дороге сердце госпожи, Пересекая рубежи. Изменник сердце похищает, Он лицемерит, совращает. Преступный пыл, дурная страсть Сердца доверчивые красть. Мессир Ивэйн виновен в этом, Он вопреки своим обетам Жестоко даму оскорбил, Похитил сердце и разбил. Изменник низкий не запнется, Он в чем угодно поклянется. Мессир Ивэйн сказал: «Клянусь, Что ровно через год вернусь». И забывает, как ни странно, Он день Святого Иоанна. Забыл? Нет, просто обманул, На госпожу рукой махнул. Она его не забывает, Ночами слезы проливает, В своей светлице заперлась, Возлюбленного заждалась, Молитвы про себя шептала, Как в заточении считала Такие медленные дни. Вот что Любовью искони На белом свете называют. Любовь свою не забывают. Ивэйн! Любовь ты осквернил, Своим обетам изменил! Измену дама не прощает, Тебе вернуться запрещает, Тебя, зловредного лжеца, Лишает своего кольца В ответ на эти оскорбленья. Отдай кольцо без промедленья!» Не в силах рыцарь отвечать. Легко безмолвных обличать. Разоблачила, уличила И обвиненье заключила, Сорвав кольцо с его перста. А тот, в ком совесть нечиста, Оправдываться не пытался, С кольцом безропотно расстался, Чтобы в безмолвии страдать. Девица божью благодать, Прощаясь, громко призывает На тех, кто в боге пребывает. Лишь тот, кто был разоблачен, От бога как бы отлучен. Кто оскорбил свою святыню, Тот хочет убежать в пустыню, Безлюдным вверившись местам, Чтобы найти забвенье там. Несчастный думает: «Исчезну!» Навеки сгинуть, кануть в бездну, Когда нельзя себе простить И невозможно отомстить. Однако верные бароны Ему потворствовать не склонны. Хотят Ивэйна сторожить, Чтобы не вздумал наложить Он руки на себя в печали. Покуда стражу назначали, Мессир Ивэйн рванулся прочь. Не в силах горя превозмочь, Бежал наш рыцарь без оглядки. Остались позади палатки. В нем вихрь жестокий бушевал. Одежду рыцарь в клочья рвал. Ткань дорогую раздирает, Рассудок на бегу теряет. Бежит в безумии бегом. Поля пустынные кругом, Кругом неведомая местность. Баронов мучит неизвестность. Ивэйна нужно разыскать, Стеречь и впредь не отпускать,— В такой тоске скитаться вредно. Мессир Ивэйн пропал бесследно. Искали в замках и в садах, В селениях и в городах. В пути судили да рядили, Искали и не находили. Ивэйна нет! Пропал, исчез! Наш рыцарь углубился в лес. Выздоровления не чает. Как вдруг лесничего встречает, И у лесничего из рук Безумец вырывает лук. Дичину в дебрях он стреляет И голод мясом утоляет. Среди пустынных этих мест Ивэйн сырое мясо ест. В лесах безумец наш дичает. Однажды скит он замечает. В скиту отшельник обитал. Ивэйн врасплох его застал: Пни корчевал пустынножитель. Он спрятался в свою обитель, Молитву на бегу творя, Едва приметил дикаря. Закрыл пустынник дверь со стуком; Однако сразу хлеба с луком Просунул в тесное окно. Голодных не кормить грешно. И хлеб и лук дикарь хватает. Жует он, чавкает, глотает. Он ел впервые хлеб такой. Дешевой черною мукой Пустынник добрый пробавлялся, Зеленым луком разговлялся. Дикарь дожевывает хлеб, Не так он вроде бы свиреп. Наевшись, мирно удалился. Отшельник богу помолился, Чтобы помог он дикарю. (Отшельника я не корю. Он поступил, как подобает.) Безумец наш не погибает. Теперь, сразив стрелою лань, Отшельнику несет он дань, Приносит ланей и оленей. Без всяких специй и солений Отшельник приготовит их, Жаркого хватит на двоих, И кое-что осталось даже: Годятся шкуры для продажи. Пустынник ел в глуши лесной Ячменный хлеб и хлеб ржаной. В лесах не требуются дрожжи, Заквашивать себе дороже. Безумцу нравится еда, И хлеб, и мясо, и вода, Вода живая ключевая. Лежал он, в дебрях почивая, Не внемля тихим голосам. В то время дама по лесам С двумя девицами гуляла. Одна девица пожелала На полоумного взглянуть, Который вздумал тут заснуть. Седло девица покидает И в изумленье наблюдает: Безумец нагишом лежит, От холода во сне дрожит. Пропали разом все приметы Поскольку человек раздетый. Нет, но в убожестве таком Девице рыцарь был знаком. Роскошно рыцарь одевался, Когда Ивэйном прозывался. Теперь он голый… Стыд и срам! Однако вот знакомый шрам — Неизгладимый след раненья. Ивэйн пред нею, нет сомненья! Но что такое с ним стряслось, Ей выяснить не удалось. Испуганно перекрестилась, Поспешно к даме возвратилась И рассказала, лея в слезах, Что в этих девственных лесах Ивэйн раздетый, безоружный И не иначе как недужный, Свалившись, погрузился в сон. От госпожи де Нуриссон (Так эта дама прозывалась) Ее девица добивалась, Чтоб госпожа дала приказ Помочь Ивейну в сей же час: «Сударыня, вы замечали: Мы все безумствуем в печали. Отчаянье — такая тьма, Что сходит человек с ума. Мессир Ивэйн, конечно, в горе. Оно причина этой хвори. Ивэйна следует лечить Вас, госпожа, не мне учить, Но правды нечего стыдиться: Нам с вами рыцарь пригодится». Сказала дама: «Скорбь и гнев В душе его преодолев, Поможет рыцарю леченье. Целительное облегченье! Ивэйну я лекарство дам. Мне подарила свой бальзам Ведунья мудрая Моргана. От непроглядного тумана Он душу грешную спасет, Ивэйну счастье принесет». Скорее в замок поскакали, Заветный ларчик отыскали. Бальзам таинственный хорош. Виски болящему натрешь — И полумертвый воскресает. От меланхолии спасает Сей чудодейственный бальзам, О чем спешу поведать вам. Не хвастая благодеяньем, Необходимым одеяньем Решили рыцаря снабдить. Неловко голому ходить. Король бы мог носить с успехом Дорожный плащ, подбитый мехом, Камзол, рубашку и штаны, Сапожкам новым нет цены, И быстроногий конь в придачу,— Слов понапрасну я не трачу. Безумный рыцарь крепко спит, Не слышит кованых копыт. И на прогалине укромной, Где возвышался дуб огромный, Девица спрятала коней. Бальзам целительный при ней. Над рыцарем она склонилась И натереть не поленилась Ивэйна с головы до ног, Чтобы скорей бальзам помог. Пред госпожою согрешила, До дна ларец опустошила — Авось не выдаст лес густой. Бальзама нет. Ларец пустой. И поспешила удалиться. Пора больному исцелиться, Слепое бешенство прошло, И снова на душе светло. Наш рыцарь славный пробудился, Опомнился и застыдился, У видов, что совсем раздет, Однако мешкать смысла нет. Наряд Ивэйну пригодился. Оделся рыцарь, нарядился И, не подумав отдохнуть, Заторопился в дальний путь. Наш рыцарь ехал в размышленье, Как вдруг раздался в отдаленье Не то чтобы звериный рык — Отчаянный протяжный крик. Кустарник дикий, глушь лесная, В дремучих дебрях тень сплошная, Нахмуренные дерева. И заприметил рыцарь льва, Когда кустарник расступился. Громадный лютый змей вцепился В хвост бедному царю зверей. Огнем дышал при этом змей. Мессир Ивэйн остановился И, приглядевшись, удивился. Чью сторону в бою принять? Придется на себя пенять, Ошибку допустив случайно. Уж очень все необычайно! В смертельной схватке лев и змей. Попробуй-ка уразумей, Кто помощи твоей достоин, Когда ты сам примерный воин. Рассудок здравый говорит: Преступен тот, кто ядовит. Перечить разуму не смея, Ивэйп решил прикончить змея. Ивэйн выхватывает меч. Огнем лицо ему обжечь Змей разъяренный попытался. Ивэйн, однако, цел остался. Ивэйна щит предохранил. Расправу рыцарь учинил Над ядовитым этим змеем, Как над безжалостным злодеем. Ивэйну пламя нипочем. Он гадину рассек мечом, Он змея разрубил на части, Из этой кровожадной пасти Не вырвав львиного хвоста. Была задача не проста. Решить задачу подобает. Искусно рыцарь отрубает Зажатый кончик, чтобы лев Освободился, уцелев. Должно быть, хищник в раздраженье И нужно с ним вступить в сраженье. Но нет! Колени лев согнул, В слезах, признательный, вздохнул. И рыцарь добрый догадался, Что лев навек ему предался И этот благородный зверь Принадлежит ему теперь. Мгновенья рыцарь не теряет, Свой меч прилежно вытирает. Он яд змеиный смыл с меча, Сталь драгоценную леча. Дорогу лев не преграждает, Ивэйна лев сопровождает Путем неведомым лесным. Отныне лев повсюду с ним, С ним вместе днюет и ночует, Издалека дичину чует, Усердный рыскает в лесу, Подобно преданному псу. Когда косулю загрызает, Свою добычу не терзает, Напьется крови и скорей, Неукротимый царь зверей, Обременив добычей спину, Несет косулю господину. Не жарят мясо без огня. Ивэйн при помощи кремня — Сухой валежник зажигает. Разделать тушу помогает Умелый свежевальщик лев, Смиряя свой голодный зев. Со зверем кровожадным дружен, Ивэйн себе готовит ужин, На вертел мясо нанизал. И прикоснуться не дерзал Благонадежный лев к дичине, Я думаю, по той причине, Что господина слишком чтил. Лев ни куска не проглотил,— Покуда рыцарь наедался, Лев терпеливо дожидался. Жаркое нечем посолить, И даже не во что налить Вина, хотя среди пустыни Вина, конечно, нет в помине. Я речь мою к тому веду, Что принимался за еду Лев лишь тогда, когда, бывало, Наестся рыцарь до отвала. Усталый рыцарь крепко спит, Подушку заменяет щит. Лев на часах не утомился, Покуда конь травой кормился, Хоть на кормах подобных впредь Едва ли можно разжиреть В глухих лесах без всякой цели Они блуждали две педели. И что же? Перед родником, Который так ему знаком, Случайно рыцарь оказался. Какими думами терзался Он под высокою сосной Перед часовенкой лесной! Чуть было вновь не помешался. Он сетовал, он сокрушался, Себя, несчастный, укорял, В слезах сознанье потерял, И наземь замертво свалился Тот, кто недавно исцелился. Как будто чтобы рядом лечь, Сверкнул на солнце острый меч, Внезапно выскользнув из ножен, Куда небрежно был он вложен. В кольчугу меч попал концом, Разъединив кольцо с кольцом, Ивэйну поцарапал шею Он сталью хладною своею. Ивэйну в тело сталь впилась, И кровь на землю полилась. Хотя не пахнет мертвечиной, Сочтя беспамятство кончиной, Лев стонет, охает, ревет, Когтями, безутешный, рвет Свою же собственную гриву, Подвластен скорбному порыву Он жаждет смерти сгоряча. Зубами лезвие меча Из раны быстро извлекает И рукоять меча втыкает Он в щель древесного ствола, Чтобы сорваться не могла, Когда пронзит жестокой сталью Он грудь себе, томим печалью. Как дикий вепрь перед копьем, Лев перед самым острием На меч неистово рванулся, Но в этот миг Ивэйн очнулся, И лев на меч не набежал, Свой бег безумный задержал. Очнувшись, рыцарь наш вздыхает. Пожар в душе не утихает. Не может он себе простить, Как мог он время пропустить, Назначенное госпожою, Сбит с толку прихотью чужою. Надежду кто ему вернет? Мессир Ивэйн себя клянет: «Загублена моя отрада. Убить себя теперь мне надо. Не стоит жизнью дорожить, Когда на свете нечем жить. Темницу бренную разрушу, На волю выпуская душу. Когда страдать обречено С душою тело заодно, Душа болит, и телу больно, Расстаться лучше добровольно — Быть может, порознь боль пройдет. Нетерпеливо смерти ждет Тот, кто сокровища лишился. Покончить жизнь я не решился Самоубийством до сих пор, Хотя такая жизнь — позор! Я должен был бы, безусловно, Себя возненавидеть кровно. Ведь это по моей вине Любовь моя враждебна мне. На льва душа моя сошлется: Мой лев пытался заколоться, Решив, что смерть моя пришла. Я сам себе желаю зла,— Я был счастливее счастливых, Был горделивей горделивых, И я себя не покарал, Когда, безумец, обокрал Я сам себя, навек теряя Все радости земного рая!» Вздыхал он, сетовал, стонал, Себя, рыдая, проклинал, Как будто был он всех виновней. Не ведал рыцарь, что в часовне Несчастная заключена, Не знал, что с трещиной стена. Внезапно голос вопрошает: «Кто это бога искушает?» «А вы-то кто?» — Ивэйн спросил. «Рассказывать не хватит сил. Вы видите: я в заключенье. Всех мук страшней мое мученье». «Молчи! — мессир Ивэйн вскричал. Придурковатых я встречал, Но ты, видать, совсем шальная. Мучений подлинных не зная, Блаженство мукою зовешь. В благополучии живешь Ты по сравнению со мною. Кто знался с радостью одною, Тот горя нe перенесет. От горя сила не спасет. И ты сама понять могла бы: Всю жизнь свою плетется слабый, Груз по привычке волоча, Который сломит силача». «Вы правы, сударь, я не спорю. Однако подлинному горю Ваш скорбный опыт — не чета. Я здесь в часовне заперта, А вы, мессир, куда угодно Поехать можете свободно, Тогда как я заключена И умереть обречена». «Но за какие преступленья?» «Ах, сударь, нет мне избавленья! Я, не повинная ни в чем, Предстану перед палачом. Меня в измене обвинили, Оклеветали, очернили, Назначили на завтра суд, И приговор произнесут, И по законоположению К повешенъю или к сожженью Они меня приговорят. Найду защитника навряд». «Конечно, мне гораздо хуже,— Ивэйн откликнулся снаружи,— Вас первый встречный защитит И вам свободу возвратит». «Нет, господин мой, только двое, И то, когда бы за живое Моя судьба задела их, Могли бы супротив троих Сразиться — каждый в одиночку». «Тут лучше бы платить в рассрочку. Неужто трое против вас?» «Три обвинителя зараз». «Не так уж это мало — трое. А как зовутся те герои? И где найдете вы таких? Кто в мире супротив троих, Отважный, выступить решится?» «Подобных схваток не страшится Достойнейший мессир Гавэйн И доблестный мессир Ивэйн, Из-за которого страдаю И смерти завтра ожидаю». «Из-за кого? Что слышу я?» «Сын Уриена-короля Всему причиною невольной». «Зачем же этот путь окольный? Вы не умрете без меня, В своей погибели виня Ивэйна бедного, который Пустые эти разговоры По неразумию ведет, Тогда как вас погибель ждет, Ведь это вы меня спасали В прекрасном зале, в страшном зале, Когда я голову терял, Когда себе не доверял. Без вас я спасся бы едва ли, Меня бы там четвертовали. И вас хотят они казнить? И вас в измене обвинить Клятвопреступники дерзнули? На добродетель посягнули?» «Мессир, не стану я скрывать: Приходится мне горевать Из-за того, что выручала Я, сударь, вас, когда сначала Намеревались вас казнить. Вас я надумала женить На госпоже, но бог — свидетель, На вашу глядя добродетель, Я думала, что госпожу Подобным браком одолжу. Вы вскоре странствовать пустились, Обратно в срок не возвратились, Отсутствовали через год. Пошли тогда наветы в ход. Я постепенно убедилась, Что дама на меня сердилась, Как будто бы моя вина В том, что она оскорблена. А тут интриги, сплетни, козни. Добиться между ними розни Коварный сенешаль мечтал, И подходящий миг настал. Бесстыдных совесть не стесняет. Меня в измене обвиняет При всех лукавый клеветник И заявляет, что проник Он, бдительный и неподкупный, В наш с вами замысел преступный, Как будто вам я предалась, От нашей дамы отреклась. Как можете вы догадаться, Довольно трудно оправдаться, Когда судья несправедлив. И закричала я, вспылив: «Всех мой защитник побеждает, Один с троими совладает». Мой ненавистник не дремал, На слове враг меня поймал, Хоть подобает отказаться В бою неравном состязаться С одним воителем втроем. Настаивая на своем, Меня порочат, оскорбляют И, наконец, предоставляют Отсрочку мне на сорок дней. Оправдываться все трудней. О вас я, сударь, тосковала, И при дворе я побывала. Как мне найти дорогу к вам, Никто сказать не мог мне там И мне помочь не торопился». «Как! Неужели не вступился Гавэйн достойнейший за вас И неповинную не спас?» «Об этом я сама мечтала, Гавэйна там я не застала. Державу обесчестил вор: Однажды королевский двор Какой-то рыцарь посещает И королеву похищает, Куда-то скрылся лиходей. Замешан в этом деле Кей. Король в безумном огорченье Дает Гавэйну порученье Похищенную разыскать (Отважному не привыкать К наитягчайшим испытаньям И продолжительным скитаньям). Перед кончиною не лгут, Меня, злосчастную, сожгут За то, что вам я помогала И ради вас пренебрегала Благополучием своим». Такой исход недопустим! — Воскликнул рыцарь.— Боже правый! И совесть, и рассудок здравый На вашей будут стороне. За вас приличествует мне. Душой и телом поручиться. Худого с вами не случится, Покуда ваш защитник жив. Упреки ваши заслужив, Свою провинность искупаю, За вас в неравный бой вступаю. Не смея думать об ином, Прошу я только об одном: Кто я такой, не открывайте, По имени не называйте Ни в коем случае меня, Инкогнито мое храня». Ответила девица: «Что вы! Вы защищать меня готовы, А я за вас не постою? Не беспокойтесь: утаю Я ваше имя, умирая; И завтра, зажило сгорая, Не выдам вас я палачу И напоследок промолчу. У вас я не прошу защиты, И так мы, сударь, с вами квиты, Когда вы рады жизнь отдать, Чтобы за вас не пострадать Одной несчастной заключенной. Мне, на погибель обреченной, Погибель ваша не нужна. Когда погибнуть я должна, Вам, сударь, вовсе нет причины Искать безвременной кончины». Ответил рыцарь: «Полно вам! Позор, проклятье, стыд и срам Тому, кто друга покидает, Когда в неволе друг страдает И на погибель обречен. Судьбою вашей удручен, Я помогу вам, так и знайте! Нет, вы меня не прогоняйте! Оставить вас я не могу, Когда пред вами я в долгу. В бою погибнуть благородней, А впрочем, с помощью господней, Урон троим я нанесу. Придется ночевать в лесу: Мне больше негде приютиться, Когда полночный мрак сгустится». «Прощайте, сударь! Добрый путь! Дай бог вам, сударь, отдохнуть, Достигнув дружеского крова, Когда судьба не так сурова». Ивэйн пришпоривал коня И в первой половине дня К часовне все же возвратился, Душою рыцарь возмутился, В негодовании смотрел: Костер губительный горел. Девицу накрепко связали, Как будто вправду доказали Ее смертельную вину, Рубашку белую одну С безжалостным пренебреженьем Оставив ей перед сожженьем. Наш славный рыцарь оскорблен (Умом и чувством обделен Тот, кто сегодня провинился, Когда в рассказе усомнился). Мессир Ивэйн уверен в том, Что победит в бою святом. Господь виновных осуждает, Невинного не покидает. Ивэйна лев сопровождал. Нет, рыцарю не досаждал Сподвижник этот благородный, Оруженосец превосходный. Ивэйн во весь опор скакал, Конем своим зевак толкал. Кричит он: «Стойте, погодите! Безвинную освободите! Прочь, подлецы! Злодеи, прочь! В костер не дам ее волочь!» И расступаются в испуге Безукоризненные слуги. Народ покорно присмирел, И рыцарь снова лицезрел Красавицу, черты которой Среди вселенского простора В разлуке сердцем созерцал. Нет, этот светоч не мерцал, Сиял он, смертных ослепляя, Такое пламя в грудь вселяя, Что сердце чуть не сорвалось, Обуздывать его пришлось Наикрепчайшею уздою, Как скакуна перед ездою. Затих всеобщий шум и гам, Лишь слышен плач придворных дам. Люнетте дамы сострадали, Вздыхали, плакали, рыдали: «Ах, позабыл нас, видно, бог. Застигла нас беда врасплох. Судьбу в слезах мы укоряем: Подругу лучшую теряем, Люнетта помогала вам, Не забывала бедных дам, Родных сиротам заменяла И госпоже напоминала С такою милой добротой: Пошлите бедной даме той Накидку беличьего меха. Богатству щедрость — не помеха Попробуй платья поищи! Где мы возьмем себе плащи, Где мы себе достанем юбки Без нашей ласковой голубки? Понять могла она одна, Как жизнь придворная трудна. В ответ на слезное прошенье Теперь услышим поношенье, О ней, заботливой, скорбя. Сегодня каждый за себя, Никто другим не порадеет, Когда богатством завладеет». Мог рыцарь убедиться сам, Внимая скорбным голосам Девицу искренне жалели. Хотя законы не велели Приговоренную жалеть, Печали не преодолеть. Но толку нет в слезах и пенях. Уже девица на коленях В своих покаялась грехах, Превозмогла смертельный страх. Как вдруг защитник появился. Он перед ней остановился И произнес: «Девица! Где Тот, кто в своей слепой вражде Вас всенародно обвиняет? Пусть на себя теперь пеняет! Когда от всех своих клевет, Опровергая свой навет, Он в сей же час не отречется, В сраженье кривда пресечется». Девица только в этот миг Могла увидеть, что возник Пред ней защитник долгожданный, Как бы самим всевышним данный. «Мессир! — девица говорит.— Вы видите, костер горит, И если бы вы запоздали, Злодеи бы не подождали, Уже была бы я золой. Солгал мой обвинитель злой, Меня вы, сударь, защитите И мне свободу возвратите!» Лишь сенешаль невозмутим. Два брата в седлах рядом с ним. И сенешаль промолвил грозно: «Теперь оправдываться поздно, Не на словах опровергать,— Таковских надобно сжигать. Оставь ты нас, глупец, в покое! Смотри, перед тобою трое. Сдается мне, ты слишком смел. Проваливай, покуда цел!» «Пускай спасается трусливый,— Ивэйн ответил,— тон хвастливый — Скорее свойство клеветы, Чем верный признак правоты. Я никого не оскорбляю, Лишь всенародно объявляю: Девице верю я вполне. Дала девица клятву мне, Что верность госпоже хранила, Не только ей не изменила,— Не помышляла изменить. Безвинную грешно винить. Тот, кто девицу обвиняет, Себя в моих глазах роняет. Втроем напрасно мне грозят. Взять обвинения назад Я предлагаю сенешалю, Своих противников не жалю В словесных стычках языком. Нет, мне язык мечей знаком. Меня сраженье не пугает. Бог в битве честным помогает, Я верю, что в союзе с ним Не уступлю в бою троим». Тут сенешаль провозглашает, Что лев сражению мешает. Убрать, мол, подобает льва. Один защитник, а не два. С одним должны сразиться трое. Как быть! Условие такое — И нечего терять слова. Ивэйн ответствовал, что льва В сражение не вовлекает, Хотя при этом допускает, Что лев ничуть не согрешит, Когда вмешаться сам решит. Перечит сенешаль: «С тобою Готовы мы сегодня к бою, С тобою, только не со львом, На этом лучше спор прервем. Зачем напрасно раздражаться, Когда не хочешь ты сражаться? В огонь изменнице пора. Быть может, в пламени костра Не наказанье — искупленье Неслыханного преступленья». Ответил рыцарь: «Нет, постой! Меня подвигнул дух святой На эту битву, и сегодня Со мною благодать господня». На льва мессир Ивэйн взглянул, И лев перечить не дерзнул. Он, выполняя повеленье, Ложится, смирный, в отдаленье. И сенешаль, повеселев, Поскольку выбыл страшный лев, Немедля к братьям обернулся. Он с братьями перемигнулся, И каждый со своим копьем На поединок, но втроем, Воинственные, устремились. Их копья вмиг переломились, Отведав доброго щита. (В неправом деле все — тщета.) Копье в руках Ивэйна цело, Надежный щит — святое дело. У нападающих зато Щиты как будто решето. Назад наш рыцарь отъезжает И сенешаля поражает С разгону так, что не в седле — На неприветливой земле Противник жалкий без движенья, Но продолжается сраженье. Сверкнули длинные мечи, Кровопролитные лучи. Хотя грозят Ивэйну двое, Не с ними счастье боевое. Ивэйн отпор обоим дал, Он в этой битве побеждал. Тут сенешаль пошевельнулся, Опамятовался, очнулся, Вот-вот он сможет сесть в седло. Дурному рыцарю везло, Упал он, чтобы сил набраться. Вновь сенешаль способен драться. Наш рыцарь, не в пример другим, В бою давал отпор троим И в этой битве утомился. Тогда-то с ревом устремился К нему на помощь верный лев, Сомнения преодолев. Решимость бог ему внушает, И лев запреты нарушает. Должно быть, внял всевышний сам Молению придворных дам. В своей тревоге безоружной Молились дамы богу дружно, Чтобы приезжий победил И, победив, освободил Чистосердечную девицу, Обиженную голубицу. Лев жажду мести утолил, Он сенешаля повалил. В когтях кольчуга, как солома В тяжелых лапах бурелома. Нисколько не боясь меча, Добрался мигом до плеча. Ломая кости, в мякоть бока Он когти запустил глубоко. Не дав покаяться в грехах, Когтями рылся в потрохах, Кишки наружу выпускает. Стеная, кровью истекает В кровавой луже сенешаль. Такие когти — словно сталь. Клыки безжалостные скаля, Напал на братьев сенешаля, В сражении рассвирепев, Неукротимый воин лев. Досталось от него обоим, Обоих бьет он смертным боем. И всем запретам вопреки Скрежещут львиные клыки И в предвкушении расплаты Насквозь прокусывают латы. Но далеко до торжества: Мечами братья ранят льва. Мессир Ивэйн заметил это И в ярости невзвидел света, Такой обиды не стерпел. Он сам, как лев, рассвирепел. Свои раненья забывает, Противников одолевает, Обоих недругов теснит, Клятвопреступников казнит. В смертельном страхе задрожали, Мечей в руках не удержали, Доспехи все повреждены. Несчастные принуждены Чужому рыцарю сдаваться И побежденными назваться. Не стонет лев и не рычит, Израненный кровоточит, Вот-вот, пожалуй, околеет. Ивэйн сподвижника жалеет, Льву помощь хочет оказать Он, прежде чем перевязать Свои бессчетные раненья. Теперь отпали обвиненья, Девица освобождена, Прощеньем вознаграждена. Ее враги в огне сгорают, Позорной смертью умирают, Самих себя приговорив. Закон старинный справедлив. Девицу дама ублажает, К себе, как прежде, приближает. Вслух сенешаля все клянут, К сеньору доблестному льнут, От раболепства изнывая, Сеньора в нем не узнавая. Ивэйна не узнала та, Чья царственная красота Душою рыцаря владела. Напрасно на него глядела Пленительная госпожа. Себя с достоинством держа, Ивэйна в замок приглашает. Прислуга льву не помешает. Удобней в замке ночевать, Раненья нужно врачевать. Мессир Ивэйн тоской терзался, Однако твердо отказался: «Нет, госпожа! Далек мой путь, И я не смею отдохнуть, Виною собственной смущенный, Моею дамой не прощенный». «Такого рыцаря прогнать! Насколько я могу понять, Должно быть, сударь, ваша дама Непозволительно упряма». «Я все готов преодолеть. Угодно госпоже велеть, И рыцарь должен подчиниться. Могу, однако, повиниться Я в прегрешениях своих Лишь тем, кто, кроме нас двоих, Мои грехи сегодня знает И в них скитальца обвиняет». «Такие люди есть?» — «Увы!» «Скажите, как зоветесь вы, И вам я все долги прощаю, Свободу вам я возвращаю!» «О нет! Навеки я в долгу. Поверьте, вам я не солгу, Не хватит жизни для расплаты. Мои пороки виноваты В моем проступке роковом. Зовусь я «Рыцарем со львом». В моем земном существованье Такое принял я прозванье». «О вас, однако же, сеньор, Я не слыхала до сих пор». «Сударыня, скажу вам честно: Мое прозвание безвестно». «И вас мне, сударь, отпустить? Нет, я прошу вас погостить». «Сударыня, мой долг — скитаться, Я с вами вынужден расстаться». «Дай бог вам, сударь, обрести Такое счастие в пути, Чтоб ваше сердце встрепенулось, Печаль блаженством обернулась!» «Сударыня, услышь вас бог!» — Он подавил глубокий вздох И про себя добавил: «Мнится, В заветном ларчике хранится Мое блаженство про запас И ключ, сударыня, при вас». Ивэйн печальный уезжает. Люнетта друга провожает. И впредь Ивэйн просил скрывать, Кто вздумал жизнью рисковать, Спасая узницу от смерти. «Свои сомнения умерьте,— Люнетта молвила ему,— Я все, что можно, предприму И перед госпожой не струшу, И вашей тайны не нарушу». Поддержку рыцарю сулит, Отчаиваться не велит, И не советует казниться, И обещает не лениться, Миг подходящий улучить И сердце госпожи смягчить, Ивэйн благодарит Люнетту, Однако скверную примету Он видит в том, что верный лев, От ран глубоких ослабев, Передвигаться не способен И мертвецу почти подобен. Израненный, совсем он плох. Вполне годятся мягкий мох И папоротник для подстилки. Щит превращается в носилки. Сам двигаясь едва-едва, Усталый рыцарь тащит льва. Весьма тяжелая работа! Вдруг перед рыцарем ворота. Стучится в них Ивэйн с трудом. В лесу глухом отличный дом. Вмиг появляется привратник, По всем приметам бывший ратник. Ворота настежь распахнул, Чтобы скиталец отдохнул. Мессир Ивэйн радушно встречен: «Ночлег вам, сударь, обеспечен, Сеньор такому гостю рад, Отпустит завтра вас навряд». Ивэйн сказал: «Я в затрудненье, Усталость хуже, чем раненье. Вы видите, я нездоров, И мне, конечно, нужен кров». Ивэйна слуги окружают, Коня в конюшню провожают, Овса ему не пожалев. На мягком ложе верный лев Покоится в тепле и холе, Устав от нестерпимой боли. Ивэйну помогли совлечь С натруженных, усталых плеч Его доспехи боевые. Наш рыцарь славный здесь впервые, Но принят он, как близкий друг, И, поторапливая слуг, Сеньор Ивэйна привечает, Как будто в нем души не чает, Обоих раненых целит, Двум дочерям своим велит Он безо всякого коварства Готовить разные лекарства. Как самым лучшим лекарям, Ивэйна вверил дочерям, Которые не оплошали: Бальзамы редкие смешали. От этих редкостных даров Ивэйн здоров, и лев здоров. Сил набирались понемногу И вновь отправились в дорогу, Враждебных не страшась угроз. Тут господин де Шипороз Сам оказался жертвой хвори. Он заболел и умер вскоре. Покойника не исцелить. Наследство надобно делить. Бог щедрым воздает сторицей, Однако с младшею сестрицей Не хочет старшая сестра Делить отцовского добра. Ни на кого не поглядела И всем именьсм завладела. Спешит меньшая ко двору, Чтобы на старшую сестру Пожаловаться государю. Мол, в грязь лицом я не ударю, Не уступлю, пока живи, И докажу свои права. Сестрица старшая смекнула: Недаром пташка упорхнула, Судиться вздумала, видать. Какой же смысл сидеть и ждать? Делить отцовское именье? Какое недоразуменье! Принарядилась поутру И поспешила ко двору, Обогнала свою сестрицу, Явилась первая в столицу И, вняв столичным новостям, Гавэйна доблестного там Расчетливо облюбовала, В защитники завербовала. Однако было решено: Не может быть разглашено Его согласие девицей. Защитник, выбранный истицей, Заранее не должен знать, С кем вздумал он себя равнять. Спокойна старшая сестрица. Вот появляется истица, Короткий красный плащ на ней, Найди попробуй ткань ценней! Плащ горностаем оторочен. (В подробностях рассказ мой точен. Как раз тогда в свою страну, Пробыв немало дней в плену, Смогла вернуться королева. Приехала в столицу дева, Когда вернулся Ланселот, Изведав множество невзгод, Герой, томившийся дотоле В позорной тягостной неволе. Всех новостей не перечесть. Столицу облетела весть О том, что злого великана Смельчак безвестный, как ни странно, В единоборстве победил И пленников освободил. Родню Гавэйна спас воитель, А после боя победитель Назвался Рыцарем со львом. (И мы героя так зовем.) В своих врагов он страх вселяет, Привет Гавэйну посылает, Хотя Гавэйну незнаком В столпотворении мирском Решила бедная истица К тому Гавэйну обратиться, Который слабых защищал И справедливых восхищал. Гавэйн ответил ей: «Простите! Меня коварным не сочтите! Хоть вам я не желаю зла, Другие ждут меня дела». К монарху дева обратилась, Когда с Гавэйном распростилась: «Король! Я требую суда! Поторопилась я сюда Искать хотя бы наставленья. Не в силах скрыть я удивленья: Никто не внял моей мольбе, И обращаюсь я к тебе. Я никогда бы не скупилась, Наследством я бы поступилась, Сестрицу старшую любя, Но если каждый за себя И в ход пошли дурные средства, Я тоже требую наследства». Король не думал возражать: «Согласен вас я поддержать, Прошения не отвергаю, Сестрице вашей предлагаю Наследство с вами разделить». Нет! Алчности не утолить, И распре суждено продлиться. Не хочет старшая делиться. (Весь город может подтвердить: Нельзя Гавейна победить.) «Нет, государь, я не согласна, Лишь мне земля моя подвластна,- Перечит старшая сестра.— Ни перелеска, ни бугра, Ни хуторочка, ни посада, Куда там! Выгона для стада Моей сестрице не отдам. Пускай немедля скажет нам, Кто защищать ее согласен, Иначе долгий спор напрасен». Король упрямицу прервал И две седмицы даровал Меньшой сестрице, чтоб меньшая, Судьбы своей не искушая, С господней помощью в пути Защитника могла найти. И старшая не возражает: «Тот, кто монарха уважает, Готов законы выполнять. Решений ваших отклонять Я, государь мой, не решаюсь, Непослушанием гнушаюсь». Сестрице младшей в путь пора. Спешила младшая сестра С монархом добрым распроститься. Боялась дева загоститься, В пути безрадостном своем Искала Рыцаря со львом. От бедствий рыцарь избавляет, Гонимого не оставляет. Девица странствует одна. Она в дороге допоздна, В местах различных побывала, Нигде она не заставала, К несчастью, Рыцаря со львом, Лишь ходит слух о таковом. Девица наша прихворнула, Когда к знакомым заглянула. В постели надобно лежать, Когда нельзя не продолжать Все время розыски героя. Девице бедной нет покоя, Томится ночи напролет. В отчаянье больная шлет На поиски свою подругу, Объехать нужно всю округу. Подруга, выехав чуть свет, Напала за полночь на след. И по дорогам и по тропам Скакала всадница галопом. Скакун измученный в пыли. Как вдруг увидела вдали Она того, кого искала. Издалека не окликала Девица Рыцаря со львом, Себе, однако, с торжеством На всем скаку она сказала: «Я не напрасно истязала Коня усталого в пути — Достигла цели я почти. Он предо мною, слава богу, Тот, о котором всю дорогу Могла я разве что мечтать. Теперь бы только не отстать». Конь пену хлопьями роняет. С трудом великим догоняет Девица Рыцаря со львом, Который нам давно знаком. Девицу рыцарь замечает, Он ей любезно отвечает: «Привет, прекрасная, привет! Храни вас бог от всяких бед!» «Я, сударь, к вам в беде взываю, На вас я, сударь, уповаю.— Девица едет рядом с ним.— Все те, кто беден, кто гоним, К вам чувства нежные питают, Защитником своим считают Вас, рыцарь, потому что вы Сегодня баловень молвы. Вы, сударь, слабым помогали И постоянно подвергали Себя опасностям, когда Грозила слабому беда. Я, сударь, вас найти мечтала, В дороге, сударь, я устала, В различных я была местах. Прозванье ваше на устах У встречных и у поперечных, У бессердечных и беспечных — О вас толкует целый свет, Подобных вам героев пет. Наперекор лихой судьбине, Среди пустыни на чужбине Не покидала я седла И все же, сударь, вас нашла. Несчастия не допустите! Мою подругу защитите! Девицу нужно защитить, Когда наследство захватить Решила старшая сестрица. Вообразите, что творится! Корыстным совесть не указ. Моя подруга просит вас За правое вступиться дело, Добиться честного раздела. Разыскивала вас она, Теперь она совсем больна, Лежит недужная в постели. Любезный рыцарь! Неужели Мы с вами деву предадим? Защитник ей необходим!» Ответил рыцарь: «Несомненно! Настолько правда драгоценна, Что вам я счастлив обещать Подругу вашу защищать. Я сил своих не пожалею, Всех супостатов одолею, Когда поможет мне господь Несправедливость побороть». Скакали рядом, совещались, А тени между тем сгущались. Пустынен лес, безлюден, дик. Внезапно в сумраке возник Пред ними замок Злоключенья. Исполнены ожесточенья, Ивэйну стражники кричат: «Эй, поворачивай назад!» Предупреждают хриплым хором: «Таких гостей клеймят позором И заколачивают в гроб. Поклясться может в этом поп!» «И вам не стыдно, подлым хамам? Ивэйн в ответ.— Подобным гамом Привыкли вы гостей встречать? Не смейте на меня кричать!» «Вы сами, сударь, не бранитесь! Подняться к нам не поленитесь, И вам подробно разъяснят, Зачем приезжего чернят». К воротам рыцарь устремился И поневоле изумился. Вновь горло стражники дерут, Как бесноватые, орут: «Хо-хо! Куда ты прешь, несчастный? Сужден тебе конец ужасный, Неописуемый конец. С позором сгинешь ты, глупец!» Сказал Ивэйн: «Вы взбеленились? Так люди сроду не бранились. Зачем ругаться и кричать? Зачем приезжим докучать? С какой вы стати мне дерзите? Какими карами грозите? Гостей бессмысленно кляня, Чего вы ждете от меня?» Сказала дама пожилая, Приезжему добра желая: «Любезный друг! Ты не сердись! Подумать лучше потрудись! Тебе не просто досаждают: Разумного предупреждают, Чтобы не вздумал человек Сюда проситься на ночлег. Они приезжего ругают, Неосторожного пугают, Отпугивают горемык, Сказать не смея напрямик, Что смертные сюда не вхожи И в замке ночевать негоже. Сам догадайся — почему. Чего ты хочешь, не пойму. Конечно, можешь ты свободно Войти, когда тебе угодно, Однако лучше уезжай! Нет, рыцарь, ты не возражай!» Мессир Ивэйи ответил даме: «Сударыня, не спорю с вами, Однако время отдохнуть. Готов я в сторону свернуть, Скажите только мне — в какую». «С тобой напрасно я толкую, Коль разуменьем ты юнец, Ночуй, где хочешь, наконец. Входи сюда без позволенья, Готовый слушать оскорбленья Должна тебя предупредить: От них гостей не оградить». Ивэйн ответствовал: «Признайся, Привык я сердцу подчиняться, А сердце мне войти велит. Напрасно чернь меня хулит». Ивэйна лев сопровождает, Он рыцаря не покидает. Девица тоже вместе с ним. «Ужо тебя мы угостим,— Как пес цепной, привратник лает.— Кто в замок наш войти желает, Тот слепотою поражен. Что ж, сударь, лезьте на рожон!» Привратник в замок приглашает, А сам приличья нарушает, Стараясь гостю нагрубить, Ивэйна хочет оскорбить. Ивэйн скрывает возмущенье. Наш рыцарь в странном помещенье. Зал? Впрочем, нет, скорей загон. Ограда с четырех сторон Из кольев длинных, заостренных: Застенок для приговоренных. В том помещенье триста дев, Искусством редким овладев, Без устали прилежно ткали, И ткани золотом сверкали. Работа, видно, не легка. Переливаются шелка. Однако бедные ткачихи На вид совсем не щеголихи. На них самих плохая ткань: Обноски, нет, лохмотья, рвань. Обнажены худые груди. Предрасположены к простуде Девицы в рубищах своих. Ивэйну стыдно за ткачих. Одеты в грязные рубашки, Сидят и плачут замарашки, Измождены, истощены. Его приходом смущены. Ивэйн уйти намеревался, На воздух выйти порывался. Привратник выход преградил: «Тому, кто в замок угодил, Войдя сюда неосторожно, Отсюда выйти невозможно. Войти? Как хочешь, как велишь! Отсюда выйти? Нет, шалишь!» «Оставим, братец, эти байки. Ты отвечай мне без утайки. Я видел только что девиц, Непревзойденных мастериц. Их ткани шелковые — чудо. Скажи ты, братец, мне: откуда Девицы родом? Почему Они попали к вам в тюрьму? И за какие прегрешенья Они должны терпеть лишенья? Таких красавиц поискать! Кто смеет ими помыкать?» Привратник буркнул: «Вам на это Я не решаюсь дать ответа, Пусть отвечает кто другой». И, на него махнув рукой, Ивэйн к девицам обратился, Среди которых очутился. Несчастные сидят и ткут, И слезы по щекам текут. Он поклонился мастерицам, Он пригляделся к бледным лицам И молвил: «Полно тосковать! Дай бог вам всем возликовать! Давайте веровать, что вскоре Блаженством обернется горе». «Услышь господь всевышний вас,— Не поднимая скорбных глаз, Одна девица отвечала,— Спросить бы, сударь, вам сначала, Откуда мы свой род ведем. Вопроса вашего мы ждем». «Я сам задать его желаю, Печали ваши разделяю». «Печали горше с каждым днем; Девичьим островом зовем Мы нашу милую отчизну, В жестоком рабстве укоризну, Названью древнему придав. Последствий не предугадав, В дорогу наш король пустился И в этом замке очутился. А в замке с некоторых пор — Не думайте, что это вздор,— Нечистая гнездится сила. Здесь в замке два сатанаила, Которых демон породил. Он ведьму двойней наградил. Сатанаилы не зевают, На бой монарха вызывают. Монарху восемнадцать лет, Сопротивляться силы нет. Беднягу черти наказали, Едва в клочки не растерзали. И чтобы смерть предотвратить, Он выкуп вынужден платить. Чертям работниц поставляет, Он ежегодно посылает В проклятый замок тридцать дев, Урон великий потерпев. Король в ловушке оказался И супостатам обязался Платить неслыханный оброк, Пока никто не превозмог Двух дьяволов на поле брани, Избавив от несносной дани Девичий остров, чтобы мы Из этой непроглядной тьмы, Возликовав, освободились И снова жизнью насладились. Но мы не смеем уповать, Обречены мы горевать. Мечтать могли бы только дети Вновь побывать на белом свете. А наше дело, сударь, ткать, К неволе вечной привыкать. В уплату ненавистной дани Ткем день и ночь такие ткани, Что любо-дорого глядеть. А что прикажешь нам надеть? Работа наша все труднее, А мы, ткачихи, все беднее. В отрепьях нищенских сидим. Мы хлеба вдоволь не едим, Нам хлеб отвешивают скупо. Надеждам предаваться глупо. Нам платят жалкие гроши: И так, мол, все вы хороши. И понедельной нашей платы Едва хватает на заплаты Сегодня грош, и завтра грош — Скорее с голоду помрешь, Чем наживешь себе чертоги. Весьма плачевные итоги! Нам полагается тощать, Чтобы других обогащать. Мы день и ночь должны трудиться. Нам спать ночами не годится,— Ленивых могут наказать, Усталых будут истязать. Мы терпим вечное глумленье, За оскорбленьем оскорбленье! Не стоит и перечислять. Здесь любят слабых оскорблять. Вздохнуть бы хоть на миг вольнее! Однако нам всего больнее, Когда какой-нибудь герой С двумя чертями вступит в бой, И торжествуют супостаты, Поскольку гибельной расплаты За этот роковой ночлег Никто покуда не избег. Так в замке дьявольском ведется. Вам, сударь, одному придется Сражаться против двух чертей. Ужасней в мире нет смертей!» «Когда поможет царь небесный,— Ивэйн ответил,— враг бесчестный Не устоит передо мной, И возвратитесь вы домой». «Услышь небесная царица»,— Перекрестилась мастерица. Ивэйн пораньше встать решил, В часовню рыцарь поспешил, Благие помыслы питая, Как церковь нам велит святая. С благочестивым дух святой. Силен своею правотой, Наш рыцарь богу подчинялся И доблести преисполнялся. Сатанаилы ждут гостей. Обоих мерзостных чертей Натура страшно исказила. У них дубины из кизила. При этом нужно разуметь: Закован каждый дьявол в медь, Своею машет булавою, Однако с голой головою Корявый черт, кривой, косой. В доспехах дьявол, но босой. Два черта с круглыми щитами. Готов схватиться лев с чертями. Таких противников узрев, Хвостом свирепо машет лев, Очами яростно вращает, Поганых демонов стращает. Ивэйну черти говорят: «Здесь, в нашем замке, не хитрят. Вассал, скорее уберите Отсюда льва, не то смотрите: Вас, рыцарь, подлым трусом тут, Не долго думая, сочтут. Да, просто трусом прирожденным. Себя считайте побежденным, Когда, завидев нас едва, На помощь вы зовете льва». Ивэйн ответил: «Право слово, Я не похож на зверолова. Словами нечего играть, Извольте сами льва убрать!» Сатанаилы отвечали: «Мы тоже львов не приручали, Убрать его придется вам, Поскольку здесь не место львам. К нам лев не должен приближаться, С одним воителем сражаться Здесь полагается двоим. На этом твердо мы стоим». «Когда пред ним вы так дрожите,- Ивэйп ответил,— укажите, Куда его мне поместить, Хотя, конечно, напустить Я льва на вас не собирался. Всегда с врагами сам я дрался. Ивэйн прервал на этом спор. Льва запирают на запор. Мессир Ивэйн вооружился, И весь народ насторожился. Ивэйн, спокойствие храня, На боевого сел коня. Противнику желая смерти, Ходили перед боем черти На льва в темнице посмотреть И дверь покрепче запереть. Как будто волею судьбины Вмиг сатанинские дубины Ивэйну раздробили шлем, Щит раздроблен почти совсем. Попробуй с дьяволами биться! Щит под ударами дробится, Как ноздреватый лед весной. Пробоины величиной С большой кулак, по крайней мере. Сатанаилы — словно звери. Все силы рыцарь наш напряг, Не отступает лютый враг. Мессир Ивэйн слегка встревожен: Дурной исход вполне возможен. Неужто рыцарь обречен? В сражении разгорячен Мессир Ивэйн стыдом и страхом. Дубины вражьи взмах за взмахом Готовы череп раздробить. Чертей попробуй истребить! В своей темнице лев томится, Конечно, верный лев стремится Ивэйну помощь оказать И супостатов растерзать. Царапал двери в озлобленье, Кусал он камни в исступленье, Изнемогая взаперти. И начинает лев скрести Когтями землю под порогом, Как будто вразумленный богом. С чертями трудно воевать, Отпор приходится давать Двум беспощадным исполинам. Тяжелым дьявольским дубинам Ивэйн ответствует мечом. Меч супостатам нипочем, Сражаться черти не устали, Чертовский щит прочнее стали, Нечистых вряд ли меч пронзит. Погибель рыцарю грозит. Как вдруг нарушило молчанье Победоносное рычанье. Лев подкопался под порог, Чтобы нечистым дать урок. Лев на бегу не оступился, Он в горло дьяволу вцепился, Сатанаила повалил, И встать не мог сатанаил. И в замке все возликовали, Все, как один, торжествовали. Лев подвиг этот совершил. Сатанаил другой спешил Помочь поверженному брату, Но было страшно супостату. Нездешней силою храним, Не отступает перед ним Лев благородный разъяренный. Поддержкою приободренный, Ивэйн готов чертей казнить. Сам черт боится льва дразнить, От страха черт изнемогает. Не рыцарь — лев его пугает. Лев так нечистого страшит, Что дьявол держит круглый щит Перед раскрытой пастью львиной. Во многих мерзостях повинный, Стоял он к рыцарю спиной, И рыцарь,молнией стальной Хватив мечом по голой шее, Пресек зловредные затеи,— И покатилась голова. В когтях воинственного льва Другой сатанаил остался, И лев с нечистым поквитался. Отважный лев не сплоховал, Плечо злодею разорвал, Споспешествуя господину. Нечистый выронил дубину, В переговоры не вступил. Нет! Побежденный возопил: «Уймите, сударь, льва, уймите! В плен лучше вы меня возьмите! Готов признать я вашу власть, Готов я в рабство к вам попасть, Я, сударь, в полной вашей власти, Боюсь я злобной львиной пасти. Вам подобает пощадить Тех, кто не в силах вам вредить. Моленью моему внемлите! Льва поскорее удалите!» «Мне отозвать не трудно льва, — Ответил рыцарь, — но сперва Признай себя ты побежденным И подлым трусом, принужденным Самою трусостью своей Страшиться доблестных людей». «Боюсь я львиного укуса, И я ничуть не лучше труса. Я в этой битве побежден И в званье труса утвержден». «Тебя я пощадить согласен. Лев побежденным не опасен». Бежит народ со всех сторон, Весельем буйным окрылен. Все рыцаря благословляют, Благодарят и прославляют. Он лишних слов не говорил, Он двери настежь растворил, Освободил он заключенных, Своим несчастней сплоченных. Довольно пленницам страдать! Настало время покидать Освобожденную обитель. Сам доблестный освободитель Во всеоружье у ворот, Где собирается народ Ивэйну люди поклонились, Смиренно стражники винились В том, что дерзнули нагрубить, Посмев приличия забыть. Ивэйн в ответ: «Грубить негоже, Однако я забывчив тоже. Тот, кто намедни мне грубил, Сегодня тем любезней был». Ответом люди восхитились И с победителем простились. Девицам виден путь прямой, Дорога верная домой. И все девицы-мастерицы Теперь свободны, словно птицы, Которые всегда летят Туда, куда они хотят. Свобода пленниц окрыляет. Наш рыцарь доблестный желает Девицам доброго пути. Довольно плакать взаперти! Задерживаться недосужно. Девицы пожелали дружно Ивэйну радость обрести, Всех погибающих спасти. Поторопиться не мешает. Неутомимо поспешает Ивэйн со спутницей своей, Стремясь доехать поскорей. Сестрица младшая хворает, Надежду, бедная, теряет. Вдруг закричали с торжеством: «Встречайте Рыцаря со львом!» Печальная развеселилась И от недуга исцелилась. Взволнована, восхищена, Встречает рыцаря она. Заговорить намеревалась, Однако слишком волновалась, Не смея гостя в дом позвать. Остался рыцарь ночевать. Им поутру коней седлают, Всего хорошего желают. Весь день в дороге провели, И замок вечером вдали Они, усталые, узрели. В том замке около недели Король с гостями пировал. Он праздника не прерывал. Девица при дворе гостила, Что своего не упустила, Обидев младшую сестру. Возликовала ввечеру: Срок, слава богу, истекает. Сестрице старшей потакает Сама Фортуна, так сказать. Мол, не пристало притязать На драгоценное наследство Девчонке, глупой с малолетства. Ну, что ж, посмотрим, поглядим! В конце концов, непобедим Гавэйн, боец неустрашимый. Господь — судья непогрешимый. Приезжие спокойным сном Заснули в домике одном, Между собою сговорились И ранним утром вместе скрылись От любопытных зорких глаз, Пока еще не пробил час. Мессир Гавэйн скрывался тоже. Друзья ближайшие не вхожи В его таинственный приют,— Не то что любопытный люд. Изволил рыцарь затвориться, И только старшая сестрица Могла видаться с ним порой. Хранит инкогнито герой. Пятнадцать дней Гавэйн скрывался. Так рыцарь замаскировался, Когда поехал ко двору (Греха на совесть не беру), Что даже сродники едва ли Воинственного узнавали. Гавэйн как будто бы немой. «Вот, государь, защитник мой! — Девица гордо объявила.— Сестра душою покривила, Меня хотела припугнуть. Намеревалась посягнуть Сестрица на мои владенья И довести до оскуденья Исконный родовой удел, Которым батюшка владел. Меня на бедность обрекала. Моя сестра не отыскала Себе защитника нигде. Процесс мой выигран в суде И безо всякого сраженья. Чтобы избегнуть униженья, Не появляется сестра. Пусть на язык она остра, Не дам я ни одной полушки Несчастной этой побирушке». Какие злобные слова! Была девица неправа, Сестру девица обижает. Король, однако, возражает: «Нет, милая, покамест я Здесь повелитель и судья. И всем неправым в устрашенье Я принимаю здесь решенья. Я срок истице даровал, И этот срок не миновал». Король девице отвечает И ненароком замечает: Сестра меньшая скачет к ним С каким-то рыцарем чужим. Вам вынужден сказать я кратко: Наш рыцарь выехал украдкой, Тайком с девицей уезжал, Чтоб лев за ним не побежал. Король Артур возвеселился, Возрадовался, умилился, Поскольку был он всей душой На стороне сестры меньшой. Сказал он: «Здравствуйте, девица! Я рад, что крепкая десница За вас поднимется в бою. Я ваше право признаю». Сестрице старшей дурно стало, Девицу злую зашатало, Лицом она земли черней. Защитник сестрин перед ней. Сестра приблизилась меньшая, Торжественно провозглашая: «Храни всевышний короля, От всяких горестей целя! Бог суесловить запрещает. Вот этот рыцарь защищает Мои законные права. Его натура такова. Он защищает оскорбленных, Обиженных и обделенных. Итак, защитник мой со мной. С моей сестрицею родной Я не хотела бы судиться. Сестрице незачем сердиться. Мою сестрицу я люблю И ни за что не оскорблю. Чужих владений мне не надо, Своим владеньям буду рада. Нет, не обижу я сестру. Ее владений не беру» «Оставь пустые рассужденья! Какие у тебя владенья? — Сестрица старшая в ответ.— У нищенки владений нет. Ты, сколько хочешь, проповедуй! Отсюда не уйдешь с победой! Удел твой — вечная тоска. Скитайся в поисках куска!» Куда любезнее меньшая! Двору симпатию внушая, Разумница произнесла: «Сестрице не желаю зла. От битвы лучше воздержаться. И то сказать, зачем сражаться Двум славным рыцарям таким, Как будто спор неразрешим? Я с детства распрями гнушаюсь, Я ни на что не покушаюсь, Раздела правильного жду». «Да что ты мелешь ерунду! — Сестрица старшая вскричала.— Пускай сожгут меня сначала! Я не согласна, так и знай! Скорее Сена и Дунай В поток единый могут слиться, Чем соглашусь я разделиться! И с кем делиться мне? С тобой? Нет, начинайте лучше бой!» «Хотя с тобой, моя сестрица, Я предпочла бы помириться, Нельзя мне все тебе отдать, Чтобы самой весь век страдать. Ну, что ж, когда нельзя иначе, Храни господь от неудачи Того, кто без красивых слов Сражаться за меня готов. С ним не встречались мы доселе, Поговорить едва успели. Мне рыцарь этот незнаком. Он правдой чистою влеком». И начинается сраженье. И весь народ пришел в движенье, Теснятся зрители толпой,— Всем хочется взглянуть на бой. Расположиться не успели, Лихие кони захрапели. Следит за рыцарями знать. Друг другу рыцари под стать, На каждом крепкая кольчуга. Неужто рыцари друг друга Узнать, однако, не могли? А может быть, пренебрегли Два друга дружбою старинной, Вражде поддавшись беспричинной? Позвольте мне заверить вас, Прервав для этого рассказ: Они друг друга не узнали, Когда сражаться начинали. Им в битву стоило вступить, И не замедлил ослепить Обоих пыл неукротимый. Узнать бы мог невозмутимый И в битве друга, но вражда Невозмутимости чужда. «Вражда»,— сказал я сам с испугом. Ивэйн Гавэйна лучшим другом Всегда, бывало, называл. За друга верного давал Он голову на отсеченье. Нет, просто умопомраченье! Друг друга преданно любить — И попытаться отрубить Мечами головы друг другу, Подобный бой себе в заслугу, Не долго думая, вменить, Чтобы потом себя винить. Ивэйн Гавэйну всех дороже. Ивэйн Гавэйну враг? О боже! Кровавый между ними спор, Когда в сражении позор Самой погибели страшнее, Хоть неизвестно, кто грешнее. Нет, я хорошего не жду. Уж если дружба на вражду Не повлияла перед боем, Страстей в бою не успокоим. Вы спросите, когда и где Случалось дружбе и вражде Под кровом общим приютиться, В одном жилище разместиться, Друг другу не грозя войной? Могли под крышею одной Вселиться в разные светлицы Две беспокойные жилицы. И все-таки вражда сильней. В укромной горенке своей Покорно дружба затворилась. Вражда в жилище воцарилась. Вражда на улицу глядит, Друзьям, коварная, вредит, Безмолвной дружбой помыкает. Вражда в сердцах не умолкает. Эй, дружба! Где ты? Отзовись! Слепцам враждующим явись! Дурные ветры в мире дуют, Между собой друзья враждуют. Ты, дружба, людям дорога, Однако друга во врага Вражда внезапно превращает. А разве дружба укрощает Неумолимую вражду? Я речь мою к тому веду, Что дружба тоже развратилась И до потворства докатилась. Враждою дружба растлена, Поругана, ослеплена. Друзья в борьбе междоусобной, Охвачены враждою злобной. Сама смертельная вражда Не ведает, что за нужда Сражаться другу против друга» Так что друзьям обоим туго. В повествовании не лги! Друзья? Нет, лютые враги! Друзья друзей не убивают И кровь друзей не проливают. Враги? Но нет, не может быть! Намеревается убить Ивэйн Гавэйна в этой схватке? Не разберусь в такой загадке. Гавэйн Ивэйну — лютый враг? Не слушайте подобных врак! Друзьям на дружбу покушаться! Ивэйн с Гавэйном не решатся Друг другу нанести урон, Когда бы даже римский трон Им вдруг за это предложили. Друзья друг другом дорожили. Не верьте мне! Я вам солгал! Жестокий бой опровергал Мои напыщенные сказки, Одну вражду предав огласке. Что делать! Истина строга. Вступили в битву два врага. Нет, копья неспроста ломают, Недаром копья поднимают. Удар вернее рассчитать! Сразить, повергнуть, растоптать! И жаловаться не пристало, Когда сама судьба втоптала С позором в мерзостную грязь Того, кто, в битве разъярясь, Противника сразить старался И сам вначале собирался В бою победу одержать. Судьбе не стоит возражать К себе теряя уваженье. И если в яростном сраженье Гавэйн Ивэйна победит, Не будет на него сердит Ивэйп, воитель посрамленный, Когда поймет он, изумленный: В пылу безжалостной войны Противники ослеплены. Так друг на друга устремились, Что копья вмиг переломились. Приличествует смельчаку Разить копьем на всем скаку. Между собой не объяснились, Отвагою воспламенились, А между тем хотя бы звук,— И распознал бы друга друг. Взаимное расположенье Предотвратило бы сраженье, Друзья тогда бы обнялись И за мечи бы не взялись. Нет! Кони бешено рванулись, И вновь противники столкнулись, И поединка не прервать. Щитам в бою несдобровать, Щиты мечами раздробили, Друг другу шлемы разрубили, Забрала даже рассекли, Потоки крови потекли Тут по доспехам рассеченным. Воителям разгоряченным Не дрогнуть и не отступить. Не так-то просто затупить Мечи надежные стальные. Давно бы дрогнули иные, А эти — нет! Скорей умрут. Расколешь даже изумруд Подобным яростным ударом. Бушует битва с прежним жаром. Ударами оглушены, Однако не сокрушены, Пощады рыцари не просят И ни за что мечей не бросят. Так рубятся за часом час, Что искры сыплются из глаз. И как у них не лопнут жилы! Какие требуются силы, Чтобы работали мечи! Других попробуй научи Не только в седлах красоваться — И нападать и отбиваться. То слышен лязг, то слышен стук. Остатки жалкие кольчуг, Щитов и шлемов раздробленных Едва ли могут утомленных Героев наших защитить. Сраженье лучше прекратить. И самый сильный отдыхает, Когда сраженье затихает. Короткий роздых — и опять Им надлежит мечи поднять. И что же! Оба нападали, Хотя в сраженье пострадали. Упорство в топоте копыт, Неистовее бой кипит. «Такое видано едва ли,— Между собою толковали Придворные,— в конце концов, Два храбреца из храбрецов Равны друг другу, очевидно, И помириться не обидно». Словам подобным рады внять, Бойцы не стали бы пенять На королевское решенье, Когда бы только в отношенье Наследства, спорного дотоль, Решенье мог принять король. Готова младшая сестрица Со старшею договориться, Однако старшая сестра Упряма слишком и хитра. Нет, старшая не соглашалась. Тогда монархиня вмешалась, Просила дело рассмотреть И четверть или даже треть Владений родовых бесспорных По настоянию придворных Сестрице младшей присудить, Дальнейший бой предупредить, Дабы друг друга поневоле Воители не закололи, Хотя (считаю так я сам) Почетный мир — отнюдь не срам, Король Артур не против мира. Сестрица старшая — задира, Не хочет разуму внимать, Никак ее не уломать. И поединок продолжался, И каждый доблестно сражался. Однако наступает ночь, Сражаться рыцарям невмочь. Не поединок— просто чудо. Воителям обоим худо. Кровь под ударами течет. Обоим рыцарям почет Такая битва доставляет, Во всех восторг она вселяет. И согласиться все должны: Друг другу рыцари равны. И воздается не без права Обоим честь, обоим слава. Желанный длится перерыв, Кровопролитный пыл смирив. Не мудрено. Бойцы устали И отдохнуть предпочитали. И каждый склонен был считать: «Мой супротивник мне под стать». В подобной мысли укрепились, Бой продолжать не торопились, Поскольку ночь уже близка И проиграть наверняка В душе побаивались оба. Такая гибельная проба Кому угодно страх внушит. Ивэйн, однако, не спешит С врагом достойным расставаться. Чтобы знакомства добиваться, Ивэйн достаточно учтив, И, случая не упустив, Заговорил он первым смело, Как мужество ему велело. И в этом рыцарь преуспел, Хотя не говорил — хрипел, Охрипнув от потери крови. Гавэйну голос этот внове, По голосу не узнавал Гавэйн того, кого назвал Ближайшим другом он когда-то, Кого любил он больше брата. Сказал Ивэйн: «Уже темно. Я полагаю, не грешно Прервать жестокое сраженье. Сердечное расположенье Вам, сударь, выразить хочу, Любая битва по плечу Тому, кто так мечом владеет, Что меч в бою, как пламя, рдеет. Искусством вашим изумлен, Впервые так я утомлен. Поверьте мне, без вероломства Ищу я вашего знакомства, Когда признать я принужден, Что в этой битве побежден. Удары ваши оглушают, Последних сил в бою лишают». Гавэйн в ответ: «Последних сил Меня подобный бой лишил, Отнюдь не вас. Вы, сударь, били Так, что едва не зарубили Меня, тогда как, чуть живой, Я защищался сам не свой. Все, что мне в битвах причиталось, Сегодня мне от вас досталось И даже, кажется, с лихвой, Хоть мне сражаться не впервой. Нет никакого основанья Скрывать от вас мое прозванье. Скрывать его не стоит: я Гавэйн, сын Лота-короля». Мессир Ивэйн, услышав это, В отчаянье невзвидел света. У рыцаря безумный вид. Расколотый бросает щит, Бросает меч окровавленный Он, прямо в сердце уязвленный. Бог знает, что произошло. Спешил покинуть он седло. Воскликнул он: «Ах я несчастный! Нет! Это случай самовластный Ввел в заблуждение меня, Слепого грешника дразня. Когда бы знал я, с кем сражаюсь! Я, полоумный, обижаюсь На собственную слепоту. Прослыть я трусом предпочту, В рассудке здравом поврежденный. Я в этой битве побежденный!» «Да кто же вы?» — вскричал Гавайи. «Не узнаете? Я Ивэйн. Вы всех на свете мне дороже, И вы меня любили тоже, Не уставали прославлять И мне утехи доставлять. Я прегрешенье искупаю, Победу вам я уступаю. Я не любитель тайных ков, Сдаюсь я без обиняков». «Нет, не пристало вам сдаваться,— Поторопился отозваться Гавэйн любезный,— посему Я вашей жертвы не приму. Сам потерпел я пораженье, И это ваше достиженье». «Нет, мне перечите вы зря, Когда, но правде говоря, Мне на ногах не удержаться, Хоть в этом, сударь, не божатся». «Нет, сударь, не перечьте мне,— Гавэйн ответил,— на войне Я так не мучился доселе. Вы доконать меня сумели. Я пораженье потерпел И не настолько отупел, Чтоб в этом вам не сознаваться. Мне полагается сдаваться». И покидает он седло. И в сумерках друзьям светло. Друг друга крепко обнимали, Как будто копий не ломали. Ивэйн Гавэйна целовал, Как будто с ним не воевал. Ивэйн с Гавэйиом в умиленье, Двор королевский в изумленье. Конечно, все поражены Таким концом такой войны. Ведь это надо умудриться Хоть напоследок помириться! Король промолвил: «Господа! Где ваша прежняя вражда? Вы так упорно враждовали, Кровь целый день вы проливали, Чтоб дружбу в битве завязать?» «Вам, государь, спешу сказать,— Гавэйн ответил,— что случилось. Сознанье наше помрачилось, И мы в безумный этот бой Вступили по причине той, Что зренья как бы нас лишили, Зеницы нам запорошили. Судьбе вопроса не задашь, И я, Гавэйн, племянник ваш, Сражался, не подозревая, Что в бой, меня не узнавая, Мой друг Ивэйн вступил со мной. Ошибкой нашею двойной Вовлечены мы в битву были, Друг друга чуть не загубили. Лишился я последних сил, Когда Ивэйн меня спросил, Как я, несчастный, прозываюсь. Победы я не добиваюсь, Греха на совесть не возьму, Сдаюсь я другу моему. По мне, пристойнее сдаваться, Чем на погибель нарываться». Ивэйн ответил: «Никогда! Мне мысль подобная чужда. . Я в этой битве побежденный. Свидетель непредубежденный, Король, конечно, подтвердит, Что я сегодня был побит». Вновь начинают состязанье, Смиряя прежнее дерзанье: «Нет, я побит!» — «Нет, я!» — «Нет, я!» Великодушные друзья Друг другу норовят сдаваться И побежденными назваться. Тот, кто сегодня побежден, Как верный друг не превзойден. Король, всевышним умудренный, Внимает, удовлетворенный. Прекрасен дружественный спор, Но кровь струится до сих пор Из многочисленных ранений, И, значит, не до объяснении И дело нужно завершить, При этом лучше поспешить. И произнес король: «Сеньоры! Я вижу, невозможны ссоры Для преданных таких друзей, Которые душою всей Друг другу жаждут покориться, Я помогу вам помириться, Чтобы грядущая хвала Нам по заслугам воздала». Друзья готовы к соглашенью, И королевскому решенью Они перечить не хотят. Им разногласия претят, Наследством надобно делиться. «Где,— говорит король,— девица, Которая хитра и зла, Которая обобрала Сестру родную для начала?» «Я здесь»,— девица отвечала, «Ответ понятен таковой, Вас выдает он с головой. Вы приговор предупредили, Вы всенародно подтвердили, Что замысел у вас дурной». «Простите, государь, со мной Так не пристало обращаться. От вас мне стыдно защищаться. Грешно девицу оскорблять, Обмолвкой злоупотреблять». Король в ответ без промедленья: — «Любые злоупотребленья Намерен я предотвратить И вам наследство захватит Поэтому не позволяю. Я никого не оскорбляю, Не нужно дела затемнять. Готовы рыцари признать Меня судьею беспристрастным, Своим сражением напрасным Последних сил себя лишив И все же дела не решив, Друзья друг другу рады сдаться Чего же сестрам дожидаться? Согласно божьему суду, Я сам раздел произведу. А если вы не согласитесь, Вы попусту не заноситесь. Тогда признать мне смысл прямой, Что побежден племянник мой». Сказал он это в устрашенье, Хотя подобное решенье Заведомо исключено, Однако понял он давно: Корысть в ответ на просьбы злится, Лишь страх заставит поделиться Сестрицу старшую с меньшой. Смысл в уговорах не большой, Когда в почете только сила. И старшая заголосила: «Вам, государь, я подчинюсь! Я за богатством не гонюсь! Я покоряюсь не без боли, Я уступаю против воли. Когда проиграна игра, Пускай берет себе сестра Так называемую долю. Себе я спорить не позволю С премудрым нашим королем». «Мы ваше право признаем И суверенное главенство,— Король ответил,— верховенство Всегда за старшею сестрой, И надлежит сестре второй Почтить вас преданным служеньем, Повиноваться с уваженьем». Итак, закончен долгий спор, И помирил король сестер, Которым время подружиться. И рыцарям разоружиться Король радушно предложил. Обоими он дорожил. Друзей вассалы окружают, Измученных разоружают, Усердия не пожалев. Как вдруг огромный страшный лев Из темных дебрей выбегает И самых доблестных пугает, И разбегается народ, И всех придворных страх берет. Ивэйн промолвил: «Не пугайтесь! Нисколько не остерегайтесь! Мой лев на вас не нападет, Несчастья не произойдет. Мой лев меня сопровождает И на друзей не нападает. Мой лев со мною, я со львом, Мы с ним в согласии живем». На льва придворные глядели, Когда вассалы загалдели. Толпятся зрители кругом, Деянья Рыцаря со львом Наперебой перечисляют, Ивейна громко восхваляют. Он великана победил И самых смелых пристыдил. Гавайи промолвил виновато: «Ах, сударь, сударь! Плоховато Сегодня вам я отплатил. Ваш лев меня совсем смутил. Убить я вас намеревался, Победы в битве добивался А вы спасли мою родню. Я, сударь, подвиг ваш ценю: Вы победили великана. Поверьте мне, любая рана, Что мною вам нанесена, Лишить меня могла бы сна, И сам я вдоволь настрадаюсь, Пока совсем не оправдаюсь В моем проступке роковом Я перед Рыцарем со львом». Между собой друзья толкуют, И все придворные ликуют. Предупредителен и тих, С довольным видом лев при них. Друзьям вассалы угождают И раненых препровождают В просторный чистый лазарет. Им перевязка не во вред. Обоим следует лечиться, Тогда худого не случится. Король друзьям врача послал, Который выше всех похвал. Заверить вас я не премину: Знал этот лекарь медицину. Он, костоправ и книгочей, Был самым лучшим из врачей Ранения зарубцевались, Лишь горести не забывались. Врачом искусным исцелен, Ивэйн по-прежнему влюблен. От этого не исцелиться, Душою не возвеселиться. Нет, рыцарю несдобровать! Погибели не миновать, Когда за годом год промчится — И сердце дамы не смягчится. И, погружен в свою тоску, К таинственному роднику Мессир Ивэйн решил вернуться. Пускай в окрестностях начнутся Гроза и ливень, снег и град, Он бурелому будет рад, Не испугается бурана. И днем и ночью беспрестанно Он бурю будет вызывать, Деревья с корнем вырывать. Недолго рыцарь наш гадает. Двор королевский покидает Ивэйн по-прежнему тайком, Любовью вечною влеком, Разлукой долгою измучен. С ним лев навеки неразлучен. Ивэйн источника достиг И вызвал бурю в тот же миг. Свирепо буря завывала, Деревья с корнем вырывала. (Поверьте, вам я не солгу, Не пожелал бы я врагу Блуждать в такую непогоду.) И старожил не помнил сроду Таких раскатов громовых. Остаться только бы в живых! И в замке дама трепетала. Твердыню древнюю шатало, Вот-вот с лица земли сметет. Скорее турок предпочтет В плен беспощадным персам сдаться, Чем смерти в замке дожидаться. И перепуганная знать Готова предков проклинать: «Будь проклят варвар-прародитель, Поставивший свою обитель Здесь, где любой проезжий хам Разгромом угрожает нам. Другого места нету, что ли? Иль, засидевшись на престоле, Рассудком пращур захромал, Чтобы потомков донимал Любой бродяга для забавы?» «Отчасти ваши люди правы,— Люнетта даме говорит.— Нам столько бедствий натворит Любой бродяга, каждый странник, Что некий доблестный избранник Обязан замок охранять. Нет! Нужно что-то предпринять, Поскольку в нашем славном войске Никто бы не дерзнул по-свойски Гостей незваных проучить. Такое дело поручить Вассалам вашим невозможно. Не скрою, на душе тревожно. Не знаю, где страшнее мне: Здесь, в замке нашем, или вне. Ах! Беззащитная обитель! Когда бы доблестный воитель Мученья наши прекратил, Чужого в бегство обратил, С господней помощью, без боя! Нам, беззащитным, нет покоя». Взмолилась дама: «Дай совет! Смышленая, ты знаешь свет. Совету внять я буду рада». «Сударыня, подумать надо. Задача трудная весьма, Тут мало моего ума. И следует вам поскорее Найти советчика мудрее. Поверьте, худо мне самой, Когда покрыто небо тьмой И вихри замок сотрясают. От вихрей вздохи не спасают. И мне, признаться, невдомек, Кто замок защитить бы мог От этой гибельной напасти. Спасение не в нашей власти». Сказала дама: «Не секрет: Защитников достойных нет Средь рыцарей моих придворных, Таких учтивых и покорных. Им родника не защитить, Им бурю не предотвратить. А я заслуг не забываю И к вам в отчаянье взываю, Не видя помощи нигде. Мы познаем друзей в беде». «Грех с госпожою пререкаться, Когда бы мог он отыскаться, Тот, кто, казня врагов своих, Однажды победил троих! Найдем его, но вот в чем горе: Он со своею дамой в ссоре, И не приедет он сюда, Пока подобная вражда Его преследует в дороге. Порою дамы слишком строги. Да что об этом говорить! Влюбленных нужно помирить. Он может умереть в разлуке, Конца не видя этой муке». Сказала дама: «Так и быть! Отважного грешно губить, Помочь я рыцарю готова. Дала бы я, пожалуй, слово Не притворяться, не хитрить, Героя с дамой помирить, И если только я способна Вражде загадочной подобной Конец желанный положить, Не стоит рыцарю тужить». «Вполне способны вы на это,— Сказала шустрая Люнетта.— Вы всех могли бы помирить. Вас будут все благодарить, Но только вы не поленитесь И, если можно, поклянитесь!» Сказала дама: «Поклянусь И уж, конечно, не запнусь». Дождавшись этого ответа, Ковчежец принесла Люнетта. Святыню нужно почитать, Пришлось прекрасной даме встать Ввиду таких приготовлений, Как подобает, на колени. Обряд внушителен и строг. Люнетта ей дает урок И наставляет ученицу: «Извольте, госпожа, десницу, Согласно правилам, поднять. Грех на меня потом пенять, Не для себя же я стараюсь, Вам помогать я собираюсь. Обряд извольте соблюдать, Мне потрудитесь клятву дать. Мне в этом деле подчинитесь И перед богом поклянитесь В согласье полном с божеством Утеплить Рыцаря со львом, Не отвергать его служенья, Вернуть ему расположенье Той дамы, что ему мила». Десницу дама подняла: «Во всем тебе я покоряюсь, Нисколько я не притворяюсь, От рыцаря не отвернусь, Утешить рыцаря клянусь, Когда могу я поручиться, Что сердце дамы вновь смягчится». Итак, Люнетта дождалась: Как должно, дама поклялась. И, не преминув снарядиться, Разумница в седло садится, Надеясь на своем коне Хоть в чужедальней стороне, Бесплодных замыслов не строя Догнать гонимого героя. И что же? Рыцаря со львом Над заповедным родником Узрела сразу же Люнетта. Какая добрая примета! Люнетте просто повезло. Она покинула седло И к рыцарю заторопилась, При этом чуть не оступилась. Ивэйн узнал ее тотчас. Не в первый, слава богу, раз Люнетту рыцарь наш встречает. Учтиво дева отвечает, Услышав дружеский привет,— Люнетта наша знает свет. «Мессир! — Люнетта восклицает.- Судьбы своей не порицает Тот, кто с Фортуною в ладу. Могла ли думать, что найду Я вас на ближнем повороте, Как будто здесь меня вы ждете?» «А вы меня искали?» — «Да, И этим я весьма горда. Я, сударь, послана за вами. Вы можете вернуться к даме. Прощенье кару завершит, Иначе дама согрешит, Дерзнув на клятвопреступленье». Ивэйн в блаженном изумленье: «Как! Неужели я прощен? Поверьте мне, я восхищен. Благословляю вашу дружбу, Вам сослужу любую службу». «Способствую вам, как могу: Навек пред вами я в долгу, Меня вы, сударь, защитили И за меня вы отомстили». «А кто меня когда-то спас? Я должен больше в триста раз!» «Я знаю, вы не поскупитесь, Однако же поторопитесь!» «Я, право слово, как шальной. Послала госпожа за мной?» «Нет, сударь, слишком вы спешите. Предупредить вас разрешите: К себе на помощь мы зовем Не вас, а Рыцаря со львом». Скакали рядом, толковали, На бога дружно уповали. Лев путников сопровождал И никакой беды не ждал. Вот в замок наконец въезжают Привратники не возражают, Весьма довольны сторожа. Обрадовалась госпожа, Любезно рыцаря встречает, Гостеприимно привечает. Прекрасней нет на свете лиц. Упал пред нею рыцарь ниц Во всем своем вооруженье. «Немыслимо пренебреженье К такому рыцарю, когда Нам с вами вновь грозит беда.— Люнетта госпоже сказала.— Советов я бы не дерзала Вам, госпожа моя, давать. Однако смеет уповать На вас одну в своем смущенье Наш гость, надеясь на прощенье». Герою дама встать велит, Поддержку искренне сулит: «Я, сударь, подтверждаю снова: Помочь я вам всегда готова, Когда помочь мне вам дано». «Спасенье рыцарю одно,— Люнетта сразу же вмешалась. Сказать я долго не решалась, Однако так и быть, решусь, Хотя, быть может, напрошусь На ваши, госпожа, упреки. Боюсь я, слишком вы жестоки. Сказать я все-таки должна: Спасти вы можете одна Того, кто перед вами ныне Наперекор своей гордыне. И вам совет мой не во вред,— У вас надежней друга нет. Дай бог вам с другом помириться, И в замке счастье воцарится. Он перед вами, верный друг, Ивэйн, достойный ваш супруг». И дама вся затрепетала, Как будто даме дурно стало: «Помилуй, господи, меня! Так, значит, это западня! Меня ты дерзко оскорбила, Желая, чтобы я любила Того, кто мною пренебрег, Не возвратившись точно в срок. Отвечу я на это гневно: Нет, лучше бури ежедневно! Я ни за что бы не сдалась, Когда бы я не поклялась В безумном этом ослепленье. Нет! В гнусном клятвопреступленье Я ни за что не провинюсь, Господней воле подчинюсь, Хоть сердце не преодолеет Того, что втайне вечно тлеет, Напоминая жар былой Под равнодушною золой». Воскликнул рыцарь восхищенный: «Умру в разлуке, непрощенный. Сударыня, я согрешил И в том, что слишком поспешил, Явившись к вам без разрешенья. Мои былые прегрешенья Простить могли бы вы одна, Гнетет меня моя вина. Я к вам, сударыня, взываю, На вашу милость уповаю». «Придется, видно, вас простить, Грехов нельзя не отпустить, Иначе клятву я нарушу, Свою же погублю я душу. Грех покаянием смягчен, Мир между нами заключен». «Я благодарен вам, поверьте! Я предан вам до самой смерти, Плененный вашей чистотой, Чему порукой дух святой». Возликовал Ивэйн влюбленный, От всех страданий исцеленный. Наш рыцарь дамою любим. И да пребудет счастье с ним. Люнетта добрая ликует, Никто на свете не тоскует. На этом кончился роман, Другие россказни — обман Кретьен повествовать кончает, А за других не отвечает. Таким кончается стихом Роман о Рыцаре со львом