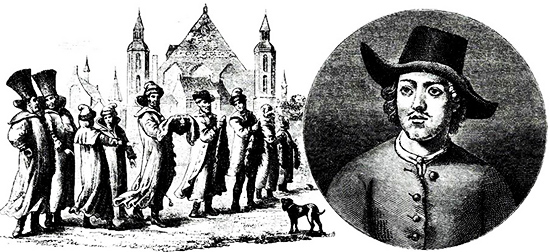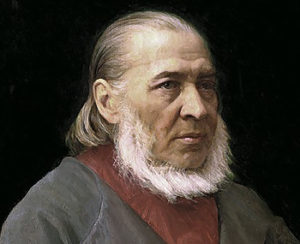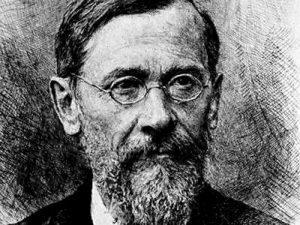1712 — 1786
Отец Фридриха, прусский король Фридрих I, друживший с Петром I, был под стать своему российскому единомышленнику. В первый же день по восшествии на престол он сократил расходы на свой двор аж в 4 раза и круто расправился с казнокрадами. С тех пор главными словами в прусском управлении стали «контроль» и «экономия».
Намерения его отца сделать из сына широко образованного, чувствительного и галантного монарха разбились о природную натуру упрямого, кряжистого, широкоплечего наследника — светские манеры и любую «гуманитарию» тот почитал за ничто, жену рассматривал только как детородительную машину (она родила ему четырнадцать детей), а интересовался исключительно «низменными» предметами — работой каменщиков и плотников, огородами и лошадьми. Он был солдат до мозга костей, таким он и вошел в историю — «король-солдат».
И к своему наследнику Фридрих относился соответственно. Он мог, например, ворваться в комнату, где учился сын, и начать жестоко избивать учителя, а потом и ребенка — только за то, что у них был урок латыни, которую отец почитал абсолютно ненужной будущему прусскому королю.
Неудивительно, что восемнадцатилетний наследник решился бежать из Пруссии в буквальном смысле «куда глаза глядят». За неудавшуюся попытку побега отец бросил сына в тюрьму, его другу и соучастнику отрубил голову под окнами тюремной камеры принца, а девушку, в которую был нежно влюблен наследник, публично освидетельствовали на предмет невинности, провели по городу, подвергая порке на каждом углу, объявили «проституткой» и бросили в работный дом навечно…
Принц Фридрих не повторил судьбу сына Петра I Алексея лишь потому, что отец натолкнулся на резкие протесты прусских судей, Военного совета и на давление соседних монархов. Он покорился. И когда отец умер, устроил ему, вопреки завещанию, пышные похороны.
К принятию короны Фридрих готовился более, чем серьезно. Принц завязал переписку с Вольтером, в результате сотрудничества с которым появился труд «Антимаккиавелли», анонимно изданный уже после коронации. В нем авторы порицали лишенный какой-либо морали практицизм, с которым итальянец анализировал государственные дела, советуя государям руководствоваться лишь своими собственными интересами, не брезгуя никакими методами. Для них главной ценностью была мораль, которой обладает разумный и доброжелательный коронованный правитель, обязанный прежде всего поддерживать благополучие и процветание своих подданных. Это была программа предстоящего царствования, которой Фридрих старался придерживаться всю свою жизнь.
Придя к власти, Фридрих первым делом запретил пытки, широко применявшиеся при расследовании уголовных дел. Он гарантировал имущественные права своих подданных («частная собственность — священна и неприкосновенна»), централизовал судопроизводство и отделил его от исполнительной власти (в духе идей Монтескье). Он отменил цензуру, потребовав, чтобы «интересным газетам не чинились препятствия», и заявив, что «берлинским газетным писателям должна быть предоставлена неограниченная свобода писать без предварительной цензуры».
Его веротерпимость была неслыханной для лютеранской страны, в которой находили убежище не только протестанты самых различных сект, но и католики, и иудеи: «Все религии равны и хороши, если их приверженцы являются честными людьми. И если бы турки и язычники прибыли и захотели бы жить в нашей стране, мы бы и им построили мечети и молельни».
Фридрих был, вероятно, одним из самых культурных и разносторонне образованных людей своего времени. Кроме родного немецкого он свободно говорил на французском, английском, испанском, португальском и итальянском языках; читал на латыни, греческом и древнегреческом и даже на иврите. Он был прекрасным музыкантом, сочинившем сотню сонат, четыре симфонии и концерты для флейты и оркестра, исполняемые до сих пор.
Прусский король всерьез относился к воспитанию населения своей страны. При нем была открыта первая большая публичная библиотека, оперный театр, Берлинская академия наук, в которую он зазвал лучших ученых со всей Европы.
При этом ни о каких «демократических» позывах у Фридриха и речи не было: «В моем королевстве единственный источник власти — я сам».
В наследство от отца Фридрих получил богатую казну и немногочисленную, но отлично выученную армию. И тем, и другим он воспользовался в полной мере, вмешиваясь во все распри в мире немецких княжеств и противостоя Австрийской империи. В итоге территория его государства увеличилось вдвое. Он реформировал свою армию так, что она стала считаться одной из сильнейших в Европе. В боях он был храбр, разумен и расчетлив.
Как его отец, «король-солдат», был дружен с Петром I, так и его «просвещенный» сын поддерживал хорошие отношения с «просвещенной» российской императрицей Екатериной II.
Конец его царствования прошел мирно, в заботах о восстановлении хозяйства и приумножении богатства страны. Он отладил сбор налогов с богатеющих бюргеров, создал сотни новых поселений, в которые привлекал колонистов из соседних немецких государств, организовал рытье многочисленных каналов для развития торговых коммуникаций.
Он много пишет — «Письма о любви к отечеству», «Рассуждения о различных образах правления и о обязанностях государей», «История раздела Польши», «История своего времени».
Постепенно начинают одолевать болезни, силы начинают ему изменять. Похоронив всех своих друзей и боевых генералов, король стал замкнут и печален: «Я уже давно стал историей самого себя».
В момент смерти Фридриха часы в его комнате, по какому-то невероятному совпадению, остановились. Именно эти часы взял с собой Наполеон в последнюю свою ссылку на затерянный посреди океана остров св. Елены…
Для российского человека образ Фридриха Великого имеет негативный оттенок. Во многом это объясняется тем, что в 20 веке нацисты сделали его своим образцом, кумиром (имея в виду, прежде всего, его военные успехи), — на него так хотелось, хоть немного, походить Гитлеру!
Не в последнюю очередь эта российская настороженность вызывается и тем, что Фридрих насаждал в своем населении качества, до сих пор называемые «прусскими добродетелями». Хотя от набора этих (типично протестантских) качеств вряд ли отказался и какой-либо другой народ — Искренность, Скромность, Усердие, Послушание, Прямолинейность, Чувство справедливости, Богобоязненность, Твердость, Храбрость, Любовь к порядку, Дисциплинированность, Чувство долга, Пунктуальность, Честность, Самоотверженность, Бережливость, Мужество без жалости к себе, Верность, Неподкупность, Субординация, Сдержанность, Надежность…
«Век Разума» в Европе и в России
Во время своей поездки по Европе «Петр Михайлов» произвел там сенсацию. Сила, энергия и целеустремленность молодого царя, его страстное любопытство ко всем достижениям западной цивилизации заставляли «просвещенных» европейцев оптимистично оценивать перспективы Российского государства. По тогдашним понятиям, разумный монарх с благими намерениями и абсолютной властью вполне мог привести свой народ к процветанию.
Петру нравилось в Европе буквально все, начиная от корабельных верфей (его главной слабости) и кончая свободным, независимым поведением людей любого общественного положения. Послушав прения в палате лордов английского парламента, царь сказал своим спутникам: «Весело слушать, когда подданные открыто говорят своему государю правду; вот чему надо учиться у англичан». Видимо, самодержец был уверен, что свобода мнений в парламенте возможна только потому, что английские лорды превосходят его московских приближенных лишь храбростью…
Общение с европейцами укрепило его отвращение к русским обычаям и уверенность в том, что его народ нуждается в радикальном «перевоспитании».
Начало «просвещения». «Перевоспитание» началось сразу по возвращении царя в Москву. Знаменитое бритье бород и указ о ношении всеми дворянами европейского платья были символическими актами, рассчитанными на психологический эффект — все должны были понять, что царь намерен полностью порвать со стариной, что традиции ему отныне не указ. Смена летосчисления и даты празднования нового года также подчеркивали: с 1 января 1700 года для России начинается новая жизнь.
Все, кто хотел быть в милости у царя, должны были отныне выглядеть и вести себя так, как хочет он: брить бороды, носить парики и венгерские кафтаны, курить табак, устраивать празднества с участием жен и дочерей — вчерашних теремных затворниц.
Быт знатных московских семей переворачивался вверх дном, то, что еще вчера было верхом недопустимого «срама», становилось не просто можно, но обязательно. Тех, кто не мог или не хотел так ломать устои своей жизни, ожидала опала. Невозбранно сохранять бороды и старые обычаи могли только крестьяне и духовенство.
Эти крутые меры сразу вызвали ропот и ненависть к молодому царю, но он меньше всего собирался считаться с мнением поборников старины. Петр был убежден, что он ведет борьбу не с людьми, а с дикими предрассудками, темнотой и невежеством, во имя разума и общей пользы. О необходимости такой борьбы в «просвещенной» Европе толковали умнейшие люди той эпохи, и Петр в своей стране воплощал на практике передовые идеи своего времени.
Борьба со «стариной» продолжалась до конца петровского царствования. Кроме бород и русского платья, гонениям подверглось и множество других старинных обычаев — русский способ выделки кожи, традиционные конструкции кораблей, застройка городов деревянными зданиями, и даже обычай хоронить покойников в дубовых гробах. Всюду, где царь видел какое-либо превосходство иноземного над отечественным, он стремился немедленно заменить одно другим.
Из-за границы тысячами выписывались мастера самых разных ремесел, которые учили русских своим приемам мастерства. Вместе с ними в роли учителя выступал и сам царь, который, управляя огромной страной, самолично написал сотни указов о том, как подданным надлежит строить дома, класть печи, печатать книги, делать бочки, убирать хлеб и даже отдыхать.
«Педагогика» Петра стояла на двух «китах» — личном примере и насилии. Сам он вел себя как образцовый подданный своего идеального государства: учился всем ремеслам, с которыми ему приходилось сталкиваться, не терпел праздности и постоянно трудился, по службе продвигался с самых низов и чины получал по заслугам (а если устраивал пьяные оргии, так и для других это не возбранялось).
Этот пример, однако, был заразителен лишь для очень немногих, и Петр проникся твердым убеждением, что ничего хорошего и полезного русские люди, как дети малые, по доброй воле не сделают — надо заставлять («потом сами же будут благодарны»). Поэтому все «хорошее и полезное» вводилось угрозами, штрафами, кнутом — особенно в тяжелые годы Северной войны.
Война и реформы. В 1701 году Петр, заключив союз с Польшей и Данией, начал свое главное дело, направленное к «общему благу» — войну со Швецией за побережье Балтийского моря. Объявить войну государству, чья армия считалась тогда сильнейшей в Европе, — это был шаг не менее отчаянный, чем ополчиться против вековых традиций своей страны.
Война началась позорным поражением под Нарвой, после которого Петра спасло только то, что шведский король Карл XII не принял его, как противника, всерьез и двинулся не на Москву, а на более опасного, по его представлениям, польского короля. Полученную передышку можно было использовать для реформирования русской армии и постепенного завоевания оставшейся без шведской помощи Прибалтики. К тому времени, как Карл вывел из войны Польшу, значительная часть восточного балтийского побережья уже была занята российской армией. Однако эти приобретения (включая заложенный в 1703 году новый город Санкт-Питербурх) пока ничем не были защищены.
В 1708 году ситуация вновь стала угрожающей — шведская армия наступала, а сил остановить ее у Петра еще не было. Русские города, включая Москву, спешно готовились к обороне. Но Карл, желая дать передышку уставшему и оголодавшему войску, повернул на Украину. Там положение его армии стало еще хуже, и, наконец, решившийся на генеральное сражение Петр в 1709 году наголову разбил ранее непобедимых шведов под Полтавой.
Карл с горсткой уцелевших соратников бежал в Турцию, а русская армия получила возможность беспрепятственно закончить завоевание Прибалтики. Однако, до заключения мира было еще далеко — мечтавший о славе великого полководца, Карл не желал сдаваться и надеялся еще переломить ситуацию в свою пользу, уговорив турецкого султана начать войну с Россией.
Зная об этой опасности, Петр решил упредить нападение, но начатый им в 1711 году поход чуть было не окончился катастрофой: все российское войско во главе с царем было окружено многократно превосходящей его по численности турецкой армией. Высвободиться из этого «капкана» Петру удалось только с помощью огромной взятки турецкому главнокомандующему. Царь отдал туркам завоеванный им раньше Азов и пообещал также не препятствовать возвращению шведского короля на родину.
Мирный договор со Швецией (Ништадтский мир) удалось подписать только через десять лет, «уступив» ей специально для этой цели занятую Финляндию. Россия получила, наконец, надежный выход в Балтийское море.
Переустройство государства. Когда армия Карла XII наголову разбила вчетверо большее по численности войско Петра под Нарвой, была начата срочная военная реформа. Вместо кормящихся «с земли» дешевых ополчений и стрельцов создали дорогую постоянную профессиональную армию, которая не только в военное, но и в мирное время полностью находилась на содержании казны и комплектовалась путем принудительных рекрутских наборов. Вооружение, снабжение этой армии и строительство флота требовало небывалых государственных расходов — и небывалого же насилия над населением.
Какими бы бесправными ни были подданные московских государей, их бесправие уравновешивалось слабостью государственного аппарата. Государство в 17 веке было не в состоянии осуществлять прямое насилие над подданными и пасовало перед мало-мальски сплоченными группами (стрельцы, казаки). Однако, когда стрелецкие полки в 1698 году попробовали взбунтоваться в очередной раз, Петр расправился с мятежниками самым жесточайшим образом, — он продемонстрировал всем, что отныне государство будет подавлять организованное непокорство подданных решительно и любыми средствами.
Борьба за исправное поступление денег в казну вылилась в настоящую войну царя против всей страны. Специальные «прибыльщики» изобретали все новые налоги, так что обыватели к концу Северной войны должны были платить чуть ли не за каждый свой шаг — и за рыбную ловлю, и за собственные бани, и за право носить бороду и исповедовать «старую» веру.
Однако реально собирать эти деньги было куда труднее, чем издавать указы: недоимки по всем сборам росли с каждым годом. За неисполнение царских указов подданным грозили страшными карами (едва ли не самой мягкой из них была каторга с вырыванием ноздрей). Население в ответ разбегалось (нередко скрывались и помещики, обязанные платить по недоимкам своих крестьян).
Для того, чтобы заставить страну «слушаться руля», самодержцу нужны были гораздо более жесткие и надежные механизмы власти, чем были в распоряжении московских царей. В поисках таких механизмов он обратился опять-таки к опыту европейских стран. Собрав и изучив целый ворох документов о работе тамошних государственных учреждений, царь «принял на вооружение» некоторые образцы (разделение страны на губернии, система коллегий-министерств в центре) Он надеялся, что это позволит создать и в России слаженный государственный механизм, который бы четко и бесперебойно обеспечивал передачу команд сверху вниз и контролировал бы их выполнение.
Все новые органы власти получили подробные регламенты, перечислявшие их обязанности и полномочия. Регламенты были составлены и для всех государственных должностей — от обер-прокурора Сената до последнего служащего, обязанного следить за чистотой в уборных.
Обеспечивать исправную работу всех государственных учреждений должны были специальные контролеры — прокуроры и фискалы. Прокуроры обязаны были следить за соблюдением органами власти своих регламентов и тут же пресекать замеченные нарушения. Фискалы были своего рода тайной полицией — они выведывали информацию о различных преступлениях чиновников и доносили о них «вышестоящим». Петр надеялся с помощью доносов искоренить ненавистное ему казнокрадство и взяточничество. Он без снисхождения казнил и наказывал даже самых высокопоставленных чиновников, уличенных фискалами — но совершенно безрезультатно:
«В царствование Петра всякий, кому по служебной обязанности предоставлялось брать что-нибудь в казну с обывателей, полагал, по выражению современника, что он теперь и для себя может высасывать бедных людей до костей и на их разорении устраивать себе выгоды. Замечали современники, что из 100 рублей, собранных с обывательских дворов, не более 30 рублей шло действительно в казну; остальное беззаконно собиралось и доставалось чиновникам. Какой-нибудь писец, существовавший на 5-6 рублей жалованья в год, получивши от своего ближайшего начальника задание собирать казенные налоги, в четыре или пять лет разживался так, что строил себе каменные палаты» (Николай Костомаров)
Мобилизация во имя «общего блага». Петр, «не щадивший живота своего» ради государственной пользы, стремился добиться такой же максимальной отдачи и от всех своих подданных. В «регулярном» государстве, о котором он мечтал, все без исключения должны были служить государственному интересу.
Идея всеобщей службы подданных царю уже была заложена в устройстве Московского государства. Однако, эта идея проводилась в жизнь не очень последовательно, было множество «щелей», позволявших отлынивать и от военной службы, и от налогового и работного тягла.
Практически никакой службы не несли монахи, которых в России было больше, чем в любой другой христианской стране. В изобилии водились по всей стране так называемые «вольные гулящие люди» (они не были приписаны ни к какому тяглу и перебивались случайными заработками). Ничем не были обязаны государству и холопы, считавшиеся полной собственностью своих владельцев. И, наконец, Россия представляла собой настоящий рай для всякого рода нищих, юродивых, странников, потому что для благочестивого русского человека милостыня считалась вернейшим средством спасения души.
На все эти «непорядки» при Петре было начато решительное наступление. «Вольных гулящих людей» методично искореняли, забирая на государственные работы, возвращая бывшим владельцам и т.п., так что к концу царствования Петра уже практически никто не мог быть вольным на законном основании. Искоренить нищенство Петр не мог, но прилагал к тому большие усилия: в новой северной столице, например, полиция обязана была арестовывать нищих и отправлять их работать на местные мануфактуры, а за подачу милостыни грозил штраф 5 рублей в пользу госпиталей.
С монахами, которых Петр за праздность сильно недолюбливал, так просто разобраться было невозможно, но кое-что предпринималось и тут: было запрещено постригаться в монахи потенциально полезным для государства или связанным какими-то обязательствами людям (например, женщинам до сорока лет, женам от живых мужей и мужьям от жен). Монастыри обязаны были служить интересам общества: лечить раненых, содержать отставных солдат, воспитывать и обучать сирот, заводить школы.
Государственные повинности массы тяглого населения также резко увеличились. Помимо рекрутских наборов и втрое возросших налогов, с него еще регулярно требовали исполнения неимоверно разросшихся трудовых повинностей — своего рода государственной барщины. И строительство Петербурга, и сооружение крепостей в пограничных областях, и рытье каналов, и рубка леса для постройки кораблей — все это в основном осуществлялось даровым принудительным трудом оторванных от своего хозяйства работников, которые гибли десятками тысяч от болезней и ужасных условий труда.
Венцом государственных усилий по мобилизации «человеческих ресурсов» стала начатая в 1718 году перепись тяглого населения. До этого налоги и рекруты брались по числу дворов, а не людей — считать дворы было намного проще, но их количество даже при росте населения год от года уменьшалось, — взрослые сыновья во избежание лишних повинностей жили вместе с родителями. Петр решил эту проблему, приказав обложить налогом «души» мужского пола от младенцев до стариков, т.е. введя вместо подворной подушную подать.
ВВ процессе переписи этих «душ» были окончательно ликвидированы все категории населения, до тех пор ускользавшие от несения регулярных повинностей в пользу государства: в тягло наравне с крестьянами были записаны холопы, родственники священников, жившие и кормившиеся при церквях и прочие до тех пор не выявленные «тунеядцы».
Новая роль дворянства. Если уж государству заставляли служить тех, кто раньше никогда ему не служил, то главное служилое сословие — дворянство — владея землей и крепостными, должно было нести свою службу гораздо исправнее, чем раньше.
Раньше «отрабатывать» пожалованную землю и крепостных можно было эпизодическими явками в дворянское ополчение, от которых несложно было при желании уклониться (или выставить себе замену). Теперь же дворянам предстояло нести постоянную службу в армии или на флоте, причем, начинать ее простыми солдатами. Еще не служащие дворяне вместе с подрастающими детьми должны были регулярно являться на смотры, чтобы царь мог всех определить к какому-нибудь делу — кого послать учиться, кого приставить к службе. Выходить в отставку имели право только по старости, болезни или увечью. За неявку на службу или на смотры петровские указы грозили отнятием имения, публичным шельмованием и даже смертью.
Отдавать детей в учебу (в том числе, если потребуется, и за границу) стало необходимой составной частью дворянской службы. Двести лет до Петра в России безрезультатно обсуждали необходимость завести какую-то систему образования для нужд церкви. При Петре речь пошла уже об обязательном светском образовании: все дворянские дети с 10 до 15 лет должны были обучаться в «цифирных» школах, где, кроме грамоты, преподавали и элементарную математику — предмет для России совершенно новый и трудный. В ответ на массовое уклонение от «учебной повинности» был издан указ, запрещающий священникам венчать дворянских отпрысков, не представивших справки от учителя об успешном окончании курса.
Как дополнительное средство увеличения «полезной отдачи» от дворянства был задуман указ о единонаследии. Этот указ вводил в России еще одно новшество западноевропейского образца: передачу всей земельной собственности только одному из дворянских сыновей. Предполагалось, что остальные, не имея возможности праздно жить за счет своих крестьян, вынуждены будут заняться чем-нибудь полезным.
Мобилизация дворян на государственную службу, однако, шла со скрипом — многие по-прежнему старались отсидеться в своих поместьях. В конце концов, проблема была решена по-другому. «Табель о рангах», принятая в 1724 году, утвердила «ранг» каждого человека на государственной службе вне зависимости от его происхождения — его «благородство» должно было определяться исключительно его служебными заслугами. Никакой князь не мог получить сразу высшего ранга — он должен был до него дослужиться, пройти всю лестницу чинов. 14 ступеней «Табели о рангах» отделяли простолюдина от вершин государственной власти и знатности, — поднявшись на госслужбе до восьмого ранга, любой «подлый» человек становился потомственным дворянином, «высокоблагородием».
Так в России впервые со времен Василия III появился слой людей, считавшихся благородными. Правда, любое «высокоблагородие» при Петре можно было публично высечь кнутом, но именовался он уже не «государевым холопом», как в прежние времена.
Церковь в «регулярном» государстве. Петр мечтал поставить на службу государству и православную Церковь. Знаменитый эпизод с перелитыми на пушки церковными колоколами был такой же демонстрацией, как бритье бород.
С началом Северной войны Церковь должна была поступиться в пользу государства своими богатствами. Земли у нее не отобрали, но лишили права распоряжаться получаемыми с них доходами. Духовенство было «обезглавлено», — нового патриарха после смерти Адриана в 1700 году Петр решил не избирать.
Но простой покорности Петру было недостаточно — надо было, чтобы духовенство понимало и одобряло смысл его политики, а главное, вело соответствующую пропаганду в народе.
Петр умудрился найти среди духовенства человека, вполне ему сочувствующего и готового делать все, что нужно царю. Воспитанник Киевской духовной академии Феофан Прокопович был, правда, человеком не вполне православным (он увлекался протестантскими идеями), но зато очень способным, образованным, красноречивым и близким Петру по духу. В своих проповедях он восхвалял петровские преобразования и доказывал, что духовенство так же обязано подчиняться царю и служить общегосударственным интересам, как и другие сословия.
Именно Прокопович подготовил и провел реформу, уже окончательно и юридически подчинившую русскую православную Церковь государству: патриаршество было ликвидировано, во главе Церкви встал подчиненный царю Святейший Синод, действующий, как и все государственные учреждения, на основе специального регламента. Священники отныне, как и все чиновники, обязаны были приносить присягу на верность государству. Эта присяга, в числе прочего, обязывала их доносить о любых противоправительственных умыслах, сообщенных им на исповеди. Исповедоваться же православные, согласно изданному указу Сената, обязаны были не реже раза в год под угрозой штрафов.
Петр не выносил повсеместно распространенной в России веры в чудеса, знамения, порчу и сглаз, пророчества кликуш и юродивых, не придавал значения столь дорогому для православных внешнему, обрядовому благочестию. Вмешиваться в эту сферу, по своему обыкновению, грубо он не решался, но при случае старался в меру своих сил искоренять суеверия и подталкивать церковь к некоторому «исправлению» веры. В 1724 году он велел Синоду написать для чтения в церквях простому народу доступную книжицу, в которой бы объяснялась разница между «истинным законом Божиим» и тем, что составляют «предания отеческие». За распространение слухов о ложных чудесах царский указ грозил ссылкой на вечные каторжные работы.
Насаждение «капитализма». Петр первым из русских царей начал догадываться, что государство не может быть богатым, если беден народ. Он мечтал о хозяйственном расцвете страны, о развитии промышленности, о том, чтобы русское купечество стало таким же богатым и предприимчивым, как западноевропейское. Многократно увеличивая бремя налогов и повинностей, отбирая в казенную монополию торговлю самыми доходными товарами, царь всячески старался помочь всем желающим завести какое-либо производство — им были обеспечены щедрые государственные льготы и даже право покупать населенные крепостными земли. Тем самым деятельность промышленника уравнивалась по государственной значимости со службой дворянина; в окружении Петра все знали, что устройство какой-нибудь полотняной или суконной мануфактуры — лучший способ заслужить любовь и признательность монарха.
Успехи были достигнуты немалые — за четверть века в России появилось более двух сотен мануфактур; армия и флот полностью вооружились отечественным оружием. Некоторые особо одаренные предприниматели сумели повести дело очень прибыльно и основать первые династии русских фабрикантов (ярчайший пример — тульский оружейный мастер Демидов).
Но в целом дело шло очень туго. В массе своей подданные Петра, не доверяя его увещеваниям о почетности предпринимательства, не соблазнялись самыми внушительными льготами, отказывались становиться капиталистами.
Петр, видимо, полагал, что бедность большинства русских людей объясняется боязнью новизны, непривычностью к предпринимательству и ленью. Историки увидели и более объективную причину упорного нежелания подданных Петра заниматься предпринимательством. Василий Ключевский назвал ее «запуганностью капиталов»:
«При общем бесправии внизу и произволе наверху робкие люди не пускали в оборот своих сбережений: крестьяне и рядовые промышленные люди прятали их в землю от помещиков, от податных и таможенных сборщиков, а дворяне… запирали свое золото в ларцы или, кто поумнее, отправляли его в лондонские, венецианские и амстердамские банки».
Результаты всех усилий царя по развитию «полезных промыслов» были пренебрежимо малы — и промышленность создавалась, в основном, не частными капиталами, а за счет казны. Построенные на казенный счет предприятия сдавались (а нередко насильно навязывались) торговым людям, но бдительная государственная опека над ними сохранялась. Правительство оберегало их от иностранной конкуренции, «питало» казенными заказами и не отягощало налогами, зато диктовало цены и щедро снабжало инструкциями и указаниями.
Выращенные таким образом «капиталисты поневоле», пользовавшиеся крепостным трудом, могли обеспечить военные нужды государства, но не способны были обеспечить расцвет российской экономики, — так же, как не способен взлететь сделанный из картона самолет.
Итоги петровского правления — плюсы и минусы.
При Петре Россия стала обладательницей одной из сильнейших в Европе армий. Осуществились юношеские мечты Петра — страна имела несколько первоклассных портов на Балтике и сильный флот.
Население России за четверть века сократилось примерно на 20% — часть из них погибла, часть бежала в Польшу и в Турцию.
Голос России на международной арене стал весом, как никогда — с ней вынуждены были считаться все, от Англии до Испании.
Расходы на армию, составлявшие в XVII веке меньше половины бюджета, выросли до 80% — при том, что налоги выросли втрое.
Россия вошла в Европу на равных и стала быстро наверстывать упущенное за предыдущие столетия.
Любого русского, включая сенаторов и губернаторов, можно было публично высечь кнутом.
…и т. д.
Россия — империя. В 1721 году во время торжеств по случаю заключения Ништадтского мира, победно завершившего Северную войну, Сенат поднес Петру титул императора и повелел отныне именовать его Петр Великий, Отец Отечества.
В своей ответной речи новоиспеченный император убеждал подданных, чтобы они и в мирное время «роскошми и сладостию покоя себя усыпить бы не допустили, оружие и армию всегда в добром порядке содержали и в том не ослабевали, смотря на примеры других государств, которые через такое нерачительство весьма разорились, между которыми приклад [пример] Греческого государства … перед очами имели, которое государство оттого и под турецкое иго пришло».
Русские слушатели Петра хорошо поняли неявный смысл его слов. Петр и в этой торжественной речи спорил со «стариной» — ведь каждому с детства было известно, что Византия — «второй Рим» — пала потому, что не сберегла истинную православную веру, и эта миссия перешла по наследству к Москве… Петр, по-иному объясняя причины гибели Византии, указывал своей стране новый путь и новую национальную идею, которая выражалась в новом названии государства: Российская Империя.
Послесловие. Войны за просвещение» окончились со смертью Отца Отечества.
Сотрудники Петра «не столько поддерживали реформу, сколько сами за нее держались, потому что она давала им выгодное положение. …Это были истые дети воспитавшего их фискально-полицейского государства с его произволом, его презрением к законности и человеческой личности, с притуплением нравственного чувства. … Дело Петра эти люди не имели ни сил, ни охоты ни продолжать, ни разрушить; они могли его только портить. При Петре, привыкнув ходить по его жестокой указке, они казались крупными величинами, а теперь, оставшись одни, оказались простыми нулями, потеряв свою передовую единицу» (Василий Ключевский)
Флот гнил и разваливался, недоимки накапливались, управление страной сводилось к постоянному затыканию зияющих «дыр» в бюджете и законодательстве…
Но уже не требовалось палки, чтобы дворяне учили своих детей, и дворянство постепенно превращалось в сплоченную политическую силу, и Россия активно участвовала в европейской политике, и русская армия продолжала побеждать даже при самых неблагоприятных условиях.
(1733—1743) Русское освоение Сибири и Великие Северные экспедиции Витуса Беринга
Читать дальше:
КОЛОНИЯ — первоначально так называлось поселение, образовавшееся вдали от родины (древнегреческими и финикийскими колониями было усеяно всё побережье Средиземного моря). Но в новое время в это слово стали вкладывать иной смысл — теперь колонией европейской страны объявлялась вся вновь открытая и контролируемая военными отрядами земля вместе с её коренным населением.
Колония не была равноправной частью государства, она была владением, используемым для обогащения захватившей её страны. Страна-владетель получала название МЕТРОПОЛИЯ. Такое государственное образование (метрополия + колония) называется ИМПЕРИЯ вне зависимости от того, как оно само себя называло. Например, Франция, Бельгия или Голландия империями себя не называли, хотя таковыми фактически являлись.
Нет принципиальной разницы, где именно находятся колонии. У Британской империи её владения были разбросаны по всему миру, на всех континентах, а территории Российской, Османской, Австро-Венгерской империй были компактными, их колонии непосредственно примыкали к территории метрополии.
Со временем прямое ограбление колоний сменилось более выгодным использованием местной (очень дешёвой) рабочей силы на построенных там предприятиях. Но это не меняло существа дела: колонии оставались колониями, управлявшимися чиновниками из метрополии или местными кадрами, целиком и полностью подчиненными центральному правительству.
В тех колониях, где большинство населения составляли уже когда‑то приехавшие туда белые поселенцы (их внуки и правнуки), постепенно образовывались свои собственные органы управления, собирались налоги для местных нужд, организовывалась собственная полиция, а то и армия. Такая колония, во многом уже самостоятельная, но формально признававшая ещё верховную власть метрополии, стала называться ДОМИНИОН (доминионами английской короны были Австралия и Канада).
ЭМАНСИПАЦИЯ — освобождение от зависимости
«Я всякий день читал свою единственную книжку «Зеркало добродетели» моей маленькой сестрице, никак не догадываясь, что она еще ничего не понимала, кроме удовольствия смотреть картинки. Эту детскую книжку я знал тогда наизусть всю; но теперь только два рассказа и две картинки из целой сотни остались у меня в памяти, хотя они, против других, ничего особенного не имеют. Это «Признательный лев» и «Сам себя одевающий мальчик». Я помню даже физиономию льва и мальчика!
Наконец «Зеркало добродетели» перестало поглощать мое внимание и удовлетворять моему ребячьему любопытству, мне захотелось почитать других книжек, а взять их решительно было негде, тех книг, которые читывали иногда мой отец и мать, мне читать не позволяли. Я принялся было за «Домашний лечебник Бухана», но и это чтение мать сочла почему-то для моих лет неудобным; впрочем, она выбирала некоторые места и, отмечая их закладками, позволяла мне их читать; и это было в самом деле интересное чтение, потому что там описывались все травы, соли, коренья и все медицинские снадобья, о которых только упоминается в лечебнике. Я перечитывал эти описания в позднейшем возрасте и всегда с удовольствием, потому что всё это изложено и переведено на русский язык очень толково и хорошо.
Благодетельная судьба скоро послала мне неожиданное новое наслаждение, которое произвело на меня сильнейшее впечатление и много расширило тогдашний круг моих понятий. Против нашего дома жил в собственном же доме С. И. Аничков, старый богатый холостяк, слывший очень умным и даже ученым человеком; это мнение подтверждалось тем, что он был когда-то послан депутатом от Оренбургского края в известную комиссию, собранную Екатериною Второй для рассмотрения существующих законов. Аничков очень гордился, как мне рассказывали, своим депутатством и смело поговаривал о своих речах и действиях, не принесших, впрочем, по его собственному признанию, никакой пользы.
Аничкова не любили, а только уважали и даже прибаивались его резкого языка и негибкого нрава. К моему отцу и матери он благоволил и даже давал взаймы денег, которых просить у него никто не смел. Он услышал как-то от моих родителей, что я мальчик прилежный и очень люблю читать книжки, но что читать нечего. Старый депутат, будучи просвещеннее других, естественно, был покровителем всякой любознательности.
На другой день вдруг присылает он человека за мною; меня повел сам отец. Аничков, расспросив хорошенько, что я читал, как понимаю прочитанное и что помню, остался очень доволен: велел подать связку книг и подарил мне… О счастие!.. «Детское чтение для сердца и разума», изданное безденежно при «Московских ведомостях» Н. И. Новиковым.
Я так обрадовался, что чуть не со слезами бросился на шею старику и, не помня себя, запрыгал и побежал домой, оставя своего отца беседовать с Аничковым. Помню, однако, благосклонный и одобрительный хохот хозяина, загремевший в моих ушах и постепенно умолкавший по мере моего удаления.
Боясь, чтоб кто-нибудь не отнял моего сокровища, я пробежал прямо через сени в детскую, лег в свою кроватку, закрылся пологом, развернул первую часть — и позабыл всё меня окружающее.
Когда отец воротился и со смехом рассказал матери всё происходившее у Аничкова, она очень встревожилась, потому что и не знала о моем возвращении. Меня отыскали лежащего с книжкой. Мать рассказывала мне потом, что я был точно как помешанный: ничего не говорил, не понимал, что мне говорят, и не хотел идти обедать. Должны были отнять книжку, несмотря на горькие мои слезы. Угроза, что книги отнимут совсем, заставила меня удержаться от слез, встать и даже обедать. После обеда я опять схватил книжку и читал до вечера.
Разумеется, мать положила конец такому исступленному чтению: книги заперла в свой комод и выдавала мне по одной части, и то в известные, назначенные ею, часы. Книжек всего было двенадцать, и те не по порядку, а разрозненные. Оказалось, что это не полное собрание «Детского чтения», состоявшего из двадцати частей. Я читал свои книжки с восторгом и, несмотря на разумную бережливость матери, прочел все с небольшим в месяц.
В детском уме моем произошел совершенный переворот, и для меня открылся новый мир… Я узнал в «Рассуждении о громе», что такое молния, воздух, облака; узнал образование дождя и происхождение снега. Многие явления в природе, на которые я смотрел бессмысленно, хотя и с любопытством, получили для меня смысл, значение и стали еще любопытнее. Муравьи, пчелы и особенно бабочки с своими превращеньями из яичек в червяка, из червяка в хризалиду и наконец из хризалиды в красивую бабочку — овладели моим вниманием и сочувствием; я получил непреодолимое желание всё это наблюдать своими глазами».
Сергей Аксаков, отрывок из автобиографической книги «Детские годы Багрова-внука»
«В истории нашего просвещения был момент, когда… книга грозила вступить во вражду с просвещением. Этот момент был дурным перепутьем между двумя великими реформами, какие вынесло русское общество в прошлом веке, между петровскою реформой порядков и екатерининскою реформой умов.
…Приблизительно с половины царствования Елизаветы Петровны на ниву русского просвещения, все более очищавшуюся от засаженных Петром тощих цифирных и технических порослей, пал сначала редкими каплями освежительный дождь амурных песенок… А за песенками полился поток назидательно-пресных мещанских трагедий и сентиментальнео-пикантных романов, в изобилии изготовлявшихся на Западе.
Колючая литература научного знания сменилась произведениями сердца и воображения, щекотавшими элементарные инстинкты, которые не нуждаются ни в подготовке, ни в поощрении. … светские люди так живо почувствовали разницу между тою и другою средой, что наука и беллетристика .. в сознании этих людей стали непримиримыми врагами, и эти люди решили, что можно и должно вкушать сладкие плоды учения, отбрасывая его горький корень. …
Среди самого разлива этого чувственно-чувствительного чтения стало проникать в наше общество влияние просветительной философии. Может быть, нигде в Европе эта философия так наглядно, как у нас, не выказалась обеими своими сторонами, лицевой и оборотной. …Популярную силу этой философии составляли не столько планы построения нового порядка, сколько критика существующего, приправленная насмешкой. Наша модно образованная публика особенно понятливо воспринимала это критическое направление просветительной философии, и не столько самую критику, сколько ее приправу.
Княжнин изобразил одного из этих выращенных новым духом времени и старыми нравами русских вольнодумцев, у которых протестующий философский смех перерождался в безразборчивое зубоскальство надо всем, а отрицание предрассудков — в забвение приличий, — словом, из свободы мысли выходило озорство почуявшего волю холопского темперамента.
…Потеряв своего бога, заурядный русский вольтерианец не просто уходил из его храма как человек, ставший в нем лишним, а, подобно взбунтовавшемуся дворовому, норовил перед уходом набуянить, все перебить, исковеркать и перепачкать.
Что еще прискорбнее, многими, если не большинством наших вольнодумцев, вольные мысли почерпались не прямо из источников — это все-таки задавало бы некоторую работу уму, — а хваталось ими с ветра, доходило до них отдаленными сплетнями из вторых-третьих рук… Многим русским вольтерианцам Вольтер был известен только по слухам как проповедник безбожия, а из трактатов Руссо до них дошло лишь то, что истинная мудрость — не знать никаких наук. …
Таким образом, открывалось неожиданное и печальное зрелище: новые идеи просветительной философии являлись оправданием и укреплением старого доморощенного невежества и нравственной косности. Обличительный вольтеровский смех помогал прикрыть застарелые русские язвы, не исцеляя их.
…Философский смех эмансипировал нашего вольтерианца от законов божеских и человеческих, … делал его недоступным ни для каких страхов, кроме полицейского, нечувствительным ни к каким угрызениям, кроме физических, — словом, этот смех становился для нашего вольнодумца тем же, чем была некогда для западного европейца папская индульгенция, снимавшая с человека всякий грех, всякую нравственную ответственность…
…Порошин рассказывает, как… к одному московскому дворянину нанялся француз учить его детей французскому языку; после оказалось, что этот француз был вовсе не француз, а чухонец [финн] и обучил он детей дворянина не французскому, а чухонскому [финскому] языку. Нечто подобное…случилось у нас и с французскою философией: многие наши вольтерианцы поступили с ней совсем по-чухонски, под фирмой ее идей выдавали свои собственные темниковские или судогдские измышления и недомыслия.
…Направление русских умов, таким образом воспринимавших просветительное влияние, становилось уже не усвоением европейской цивилизации, а болезненным расстройством национального смысла… Привозные лекарства только растравляли старые туземные недуги, и приходилось лечить не только от болезней, но и от самого лечения.
Один заезжий англичанин писал, что русское дворянство самое необразованное в Европе, что русскому правительству труднее будет цивилизовать своих дворян, чем крестьян».
«Екатерине предстояло побороть закоренелое равнодушие и недоверие, с каким население привыкло встречать правительственный призыв к общественному содействию, зная по опыту, что ничего из этого, кроме новых тягостей и бестолковых распоряжений не выйдет. … Манифест о созыве депутатов был читан по всем церквам три воскресенья сряду… Депутаты призывались к «великому делу». …Депутатам назначено было жалованье; звание их возведено было на небывалую высоту и стало самым привилегированным в России. Они находились под «собственным охранением» императрицы, на всю жизнь, «в какое бы прегрешение» не впали, освобождались от смертной казни, пытки и телесного наказания; имущество их подвергалось конфискации только за долги, личная безопасность охранялась удвоенной карой; им даны были для ношения особые значки, которые дворянским депутатам по окончании дела позволялось вносить в их гербы, «дабы потомки знать могли, какому великому делу они участниками были». Никто из русских подданных не пользовался тогда такими преимуществами»
Василий Ключевский
Трудно менять привычки. Но в данном случае это сделать придется.
В нашей стране, несмотря на стремление к «спокойной» жизни без общественных катаклизмов, отношение к «мирным» реформаторам, старающимся делать свое дело, избегая «кровопролитиев» — крайне предвзятое. У трех-четырех поколений россиян 20-21 веков в головах окончательно окрепло представление, что «локомотивами истории» являются насильственные революции — и, чем кровавей, тем «локомотивней», тем выше их оценка. А любые реформаторские попытки рассматриваются как заведомо неискренние, обреченные на поражение и лишь стоящие на пути «истинного прогресса».
Эти представления в наших людях укоренились накрепко, они давно уже в подсознании, они стали социальным инстинктом. Выдавить их оттуда, где они в нас сидят, чрезвычайно трудно. Но надо, поскольку представления эти весьма далеки от реальностей истории всех, абсолютно всех без исключения народов.
Не так давно мы смотрели на события Английской («кромвелевской») революции и видели, как эти события, закономерно перетекая одно в другое, описали огромный круг, пока не привели страну в ту же самую ситуацию, с недовольства которой все и начиналось (причем, уже в гораздо более жестком варианте). Англичане — удивительный народ, удивительный, прежде всего, тем, что им никогда не надо было «повторять дважды». Причем, это касается как «высших», так и «низших» классов. Собственная история их действительно учила — больше подобных катаклизмов ни те, ни другие не допускали.
У нас еще будут возможности показать те же самые закономерности, характерные для любой революции. А пока речь пойдет о волне реформаторства 18 века.
Наши социальные инстинкты отказывают коронованным особам в каких-либо достойных уважения качествах, если после них не остается либо вконец разоренная страна, либо какие-нибудь широкие завоевания (что чаще всего — одно и то же). Но завоеваний в Европе в том веке было не так уж много, а состояние большинства государств, жизнь их населения заметно изменились, безусловно, в лучшую сторону. И в этом была несомненная заслуга тогдашних европейских правителей.
(Исключением были две страны — Речь Посполитая и Франция. Трудно сказать, почему, но именно эти государства-исключения к концу века постигли катастрофы. Речь Посполитая вообще перестала существовать, будучи поглощенной соседними «просвещенными монархиями», а французское королевство обрушилось в бездну Великой революции.)
Если вернуться немного назад, то станет ясно, что «просвещенный абсолютизм» был воплощением государственной модели, разработанной Томасом Гоббсом. Это был довольно редкий случай, когда глобальная идея общественного устройства воплотилась в жизнь столь полно. И в течение века в этой идее выявились все ее «узкие места», в конце концов, систему «просвещенного абсолютизма» опрокинувшие.
«Просвещенные монархи» Европы были людьми разными, весьма различны были и их страны (Португалия и Пруссия, империя Габсбургов и Швеция), у каждой из которых были свои специфические проблемы, которые их правители пытались решить. Так что, говорить об итогах 18 века можно лишь в общем и целом.
И главным итогом европейского «века Разума» следует признать расширение и закрепление области человеческой свободы. Прежде всего, речь идет о решении важнейшей тогдашней проблемы — о закреплении свободы совести, свободы вероисповедания. Тогда же закрепилась и свобода слова, в том числе и печатного. Суды стали независимыми и перестали быть придатком королевской власти — крепла уверенность в том, что, если ты не нарушил закон, ты будешь оправдан, какие бы отношения у тебя ни сложились с властью. К концу века ушли в прошлое и унизительные наказания, к которым ранее без колебаний приговаривали суды, и жесточайшие способы казней, от описания которых кровь стынет в жилах.
Сама королевская власть испытала в последующие времена много приключений, но и до сей поры сохранила традиции, утвердившиеся именно в 18 веке — своеобразный «кодекс приличий», не позволявший даже самому «абсолютному» монарху переступать некие рамки (прежде всего, жестокости), подчиняться законам своего государства, хотя это подчинение и не было закреплено законодательно. Старавшиеся подражать своему государю члены правящего класса также постепенно присоединялись к этому общему для всех власть предержащих «кодексу приличий».
Однако, были в этой идее «детали», которые убрать из нее было невозможно, но которые в дальнейшем обрекли «просвещенный абсолютизм» на обрушение. Это, прежде всего, мысль о том что все люди равны. Сейчас она кажется нам самоочевидной, но тогда была нова и свежа. Взгляд на монарха не как на «помазанника Божия», а как на обыкновенного человека, равного всем остальным и лишь в силу семейной случайности вознесенного на вершину абсолютной власти, была потенциально взрывоопасна.
Кроме того, расширение «частной» свободы отдельного «обыкновенного» человека, укрепляющаяся привычка к этой свободе заставляли увидеть несвободу в выборе государственного устройства, что также не способствовало закреплению в веках «просвещенного абсолютизма». [А как писал потом великий специалист по свободе русский анархист Михаил Бакунин, «если от свободы отрезать кусочек, то вся свобода перейдет в этот кусочек»]
Это были «мины», которые «рванули» уже к концу 18 века.
Если говорить о России, то тут стоит сравнить итоги длительных царствований двух монархов, удостоенных еще при жизни звания Великих — Петра и Екатерины.
Такое прямое сравнение сделала многолетняя подруга и единомышленница Екатерины II Екатерина Дашкова (вряд ли у императрицы по поводу ее предшественника на троне было иное мнение):
«Он был гениален, деятелен и стремился к совершенству, но он был невоспитан, и его бурные страсти возобладали над его разумом.
Он был вспыльчив, груб, деспотичен и со всеми обращался как с рабами, обязанными это терпеть; его невежество не позволяло ему видеть, что некоторые реформы, насильственно введенные им, со временем привились бы мирным путем в силу примера и общения с другими нациями.
Если бы он не ставил так высоко иностранцев над русскими, он не уничтожил бы бесценный, самобытный характер наших предков.
Если бы он не менял так часто законов, изданных даже им самим, он не ослабил бы власть и уважение к законам. Он подорвал основы уложения своего отца и заменил их деспотическими законами; некоторые из них он сам же отменил».
Если присмотреться к этому отрывку внимательно, то обнаружится, что Петр здесь — только повод для описания образа «идеального» монарха и характера его действий:
— во-первых, никакая гениальность и стремление к совершенству не спасут от конечной неудачи монарха, у которого его страсти, эмоциональные импульсы подавляют его разум. Чтобы такое не происходило, монарх должен быть определенным образом воспитан;
— во-вторых, грубость, деспотичность должны быть исключены из поведения государя, он должен понимать, что люди, обязанные ему повиноваться, не должны чувствовать себя при этом его рабами;
— в-третьих, не следует во всех случаях заставлять подданных повиноваться своим указам насильно. Есть реформы, которые прививаются только мирным, постепенным путем. Главным в продвижении преобразований является сила примера, подаваемого самим монархом, а также общение с европейскими народами;
— в-четвертых, не следует навязывать своим подданным иностранные образцы, но учитывать характер и традиции собственного народа;
— в-пятых, в законотворчестве не надо метаться, торопливо заменяя одни указы другими, что подрывает уважение к законам и ослабляет власть монарха. Следует больше опираться на опыт своих предшественников на троне.
Екатерину часто обвиняли и продолжают обвинять в лицемерии, в том, что ее слова и принципы расходились с ее делами. Но и здесь, как в случае с Петром I, нам хотелось бы оправдать эту поистине великую императрицу, приведя ее ответ Дидро еще раз:
«М-сье Дидро! Я с большим удовольствием выслушала все, что вам внушает ваш блестящий ум. Но вашими высокими идеями хорошо наполнять книги, действовать же по ним плохо. Составляя планы разных преобразований, вы забываете разность наших положений. Вы трудитесь на бумаге, которая все терпит. Она гладка, мягка и не представляет затруднений ни воображению, ни перу вашему. Между тем как я, несчастная императрица, тружусь для простых смертных, которые чрезвычайно чувствительны и щекотливы»…
Обратите внимание, что российская императрица в своих преобразованиях пошла дальше своих европейских «коллег», внеся в российскую жизнь «демократическую» краску — новые законы, по которым предстояло жить ее империи, должны были быть разработаны не самой государыней, а выборными представителями от всех свободных сословий страны. Все говорит о том чрезвычайном значении, которое Екатерина придавала своему законодательному проекту.
Дело это было для России, действительно, невиданное. И провал этого проекта показал, что европейские монархи, не допускавшие население своих стран до либерального законотворчества, были, пожалуй, правы. Екатерина «по-тихому» свернула работу Уложенной комиссии не потому что испугалась каких-то «революционных» требований депутатов, а по прямо противоположной причине. Она увидела, что общественное мнение в стране, впервые в концентрированном виде представшее перед ее глазами, не желает никаких серьезных перемен, и что путь к «царству разума» находится целиком только в ее руках, и что путь этот будет долгим, гораздо более долгим, чем она первоначально предполагала.
И главным инструментом преобразования России она выбрала просвещение, добавив к собственному примеру и общению с западными странами еще и образование.
Переделывать сознание «щекотливого» старшего поколения было трудно, поэтому основное внимание было уделено воспитанию нового поколения россиян. Поистине бесценным подарком русской культуре было первое появление книжек, специально адресованных детям. С образования и воспитания этого, пока немногочисленного, «первого непоротого поколения» и началось то, что в начале следующего века вспыхнуло целым созвездием творцов русской литературы, музыки, живописи, архитектуры, науки — то, что мы и посейчас называем «великой русской культурой».
Именно в екатерининскую эпоху начался раскол российского общества на «образованное» меньшинство и большинство, прежде всего, крестьянского населения, продолжавшего жить в условиях и традициях чуть ли не тысячелетней давности.
Ничего «рокового», «судьбоносного» в этом не было — такой раскол был характерен для всех государств, начинавших преобразования именно с «высших» классов общества. Тут важна была успешность деятельности следующих правительств, старавшихся «затянуть» этот разрез на живом теле общества, — постепенно предоставляя «низшим» классам те же права и свободы, развивая систему всеобщего образования, расширяя сферу либерального «просвещения» во всех областях. В силу целого ряда причин Россия не успела «затянуть» эту рану… Но это уже другая тема.