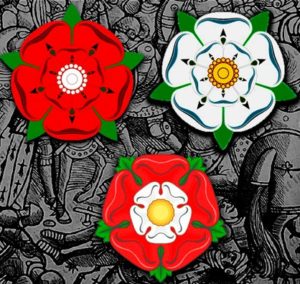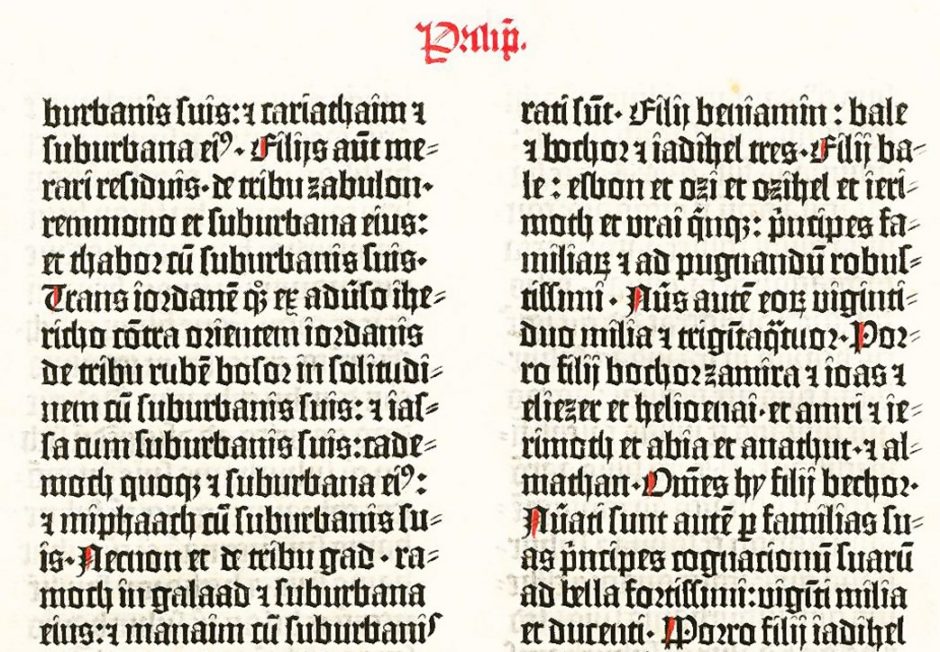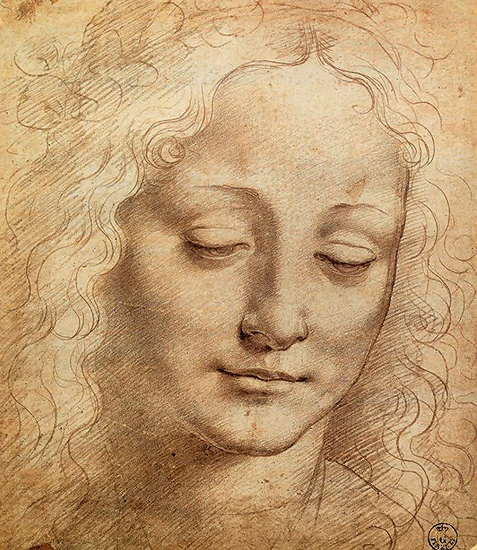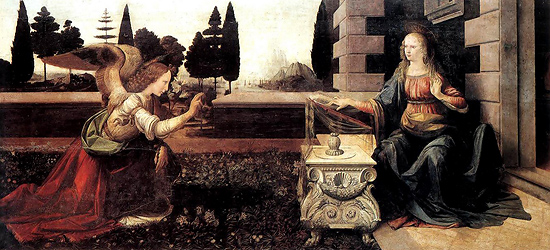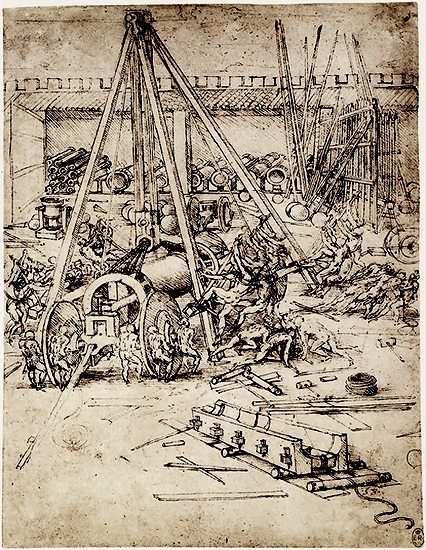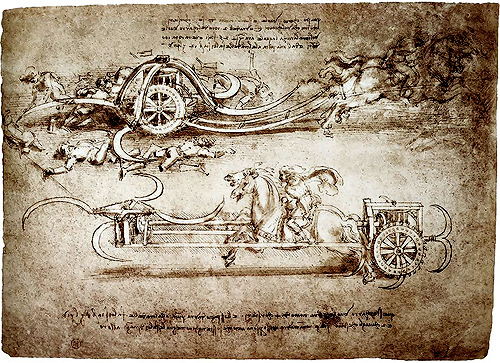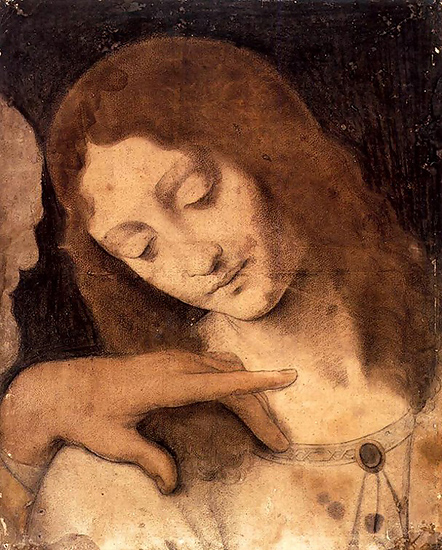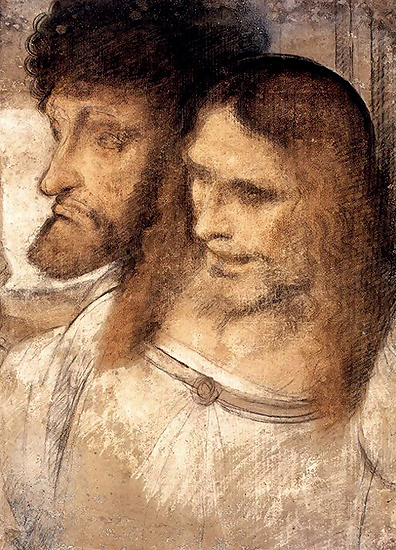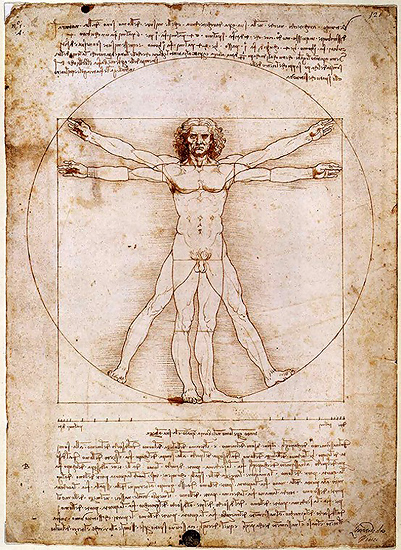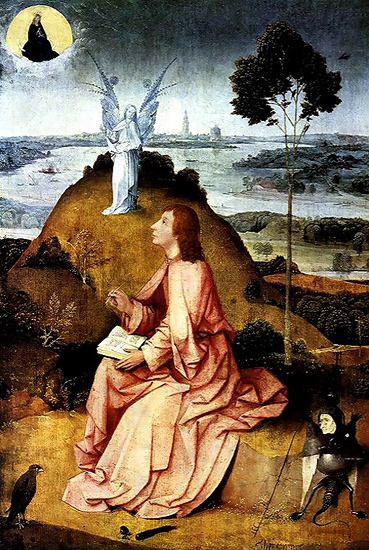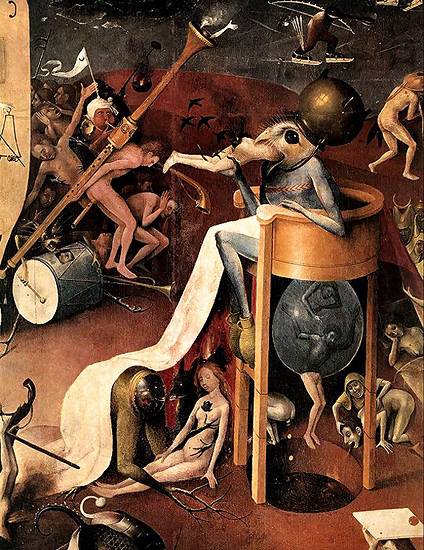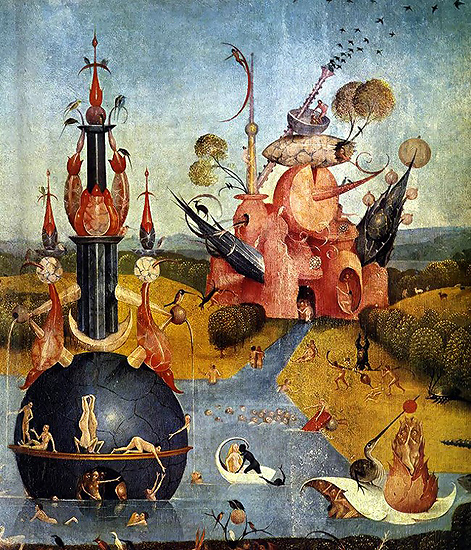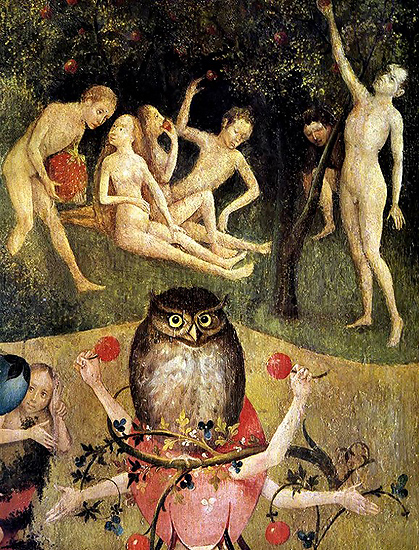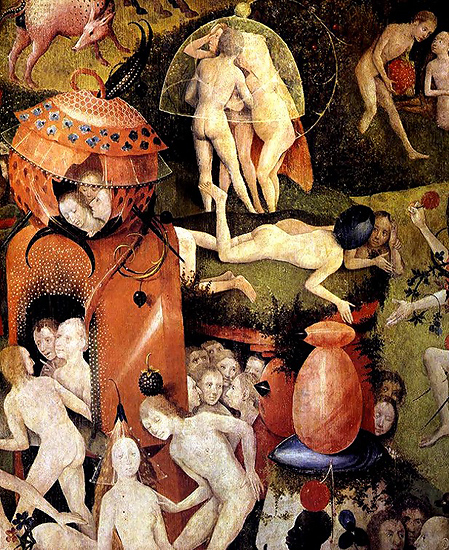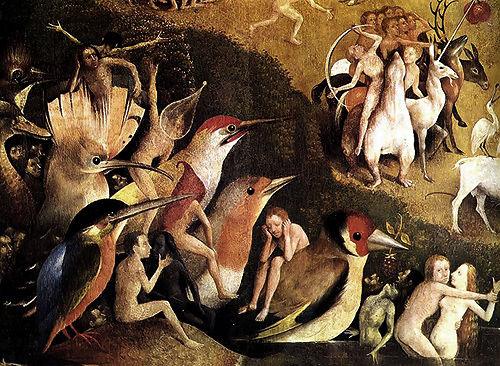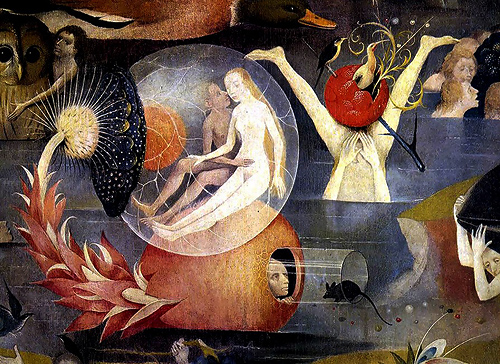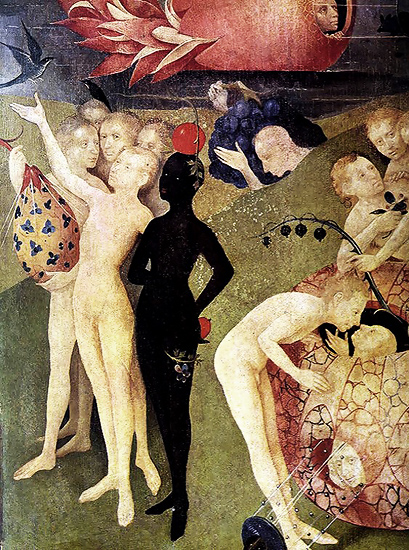Через подобные войны пришлось пройти практически всем крупным странам. Происходили они всегда из-за распрей аристократических кланов, схлеснувшихся в борьбе за трон. Подобная феодальная война в Московии, продолжавшаяся около тридцати лет, только-только закончилась, а через пару лет начались кровавые схватки за корону в Англии. Такие войны еще не назывались «гражданскими», поскольку они были внутренним делом аристократии и широкие слои населения затрагивали мало, тем более, что военные действия велись преимущественно небольшими армиями и в районах сравнительно малонаселенных.
За время Столетней войны на континенте в Англии появилось много обученных и испытанных воинов, которые военное дело предпочитали всем прочим, более мирным занятиям. Они охотно нанимались в отряды баронов, увеличивая их силу, самостоятельность и влияние. И у тех появлялось желание вооруженной рукой поучаствовать в выяснении отношений между аристократическими группировками, близко стоявшими к трону.
А ситуация в среде высшей аристократии была сложной. Король Генрих VI из ланкастерской ветви династии Плантагенетов был правителем слабым, страдавшим к тому же припадками безумия, он потерял большинство своих континентальных владений. Вожди двух ветвей царствующей династии — и Йорки, и Ланкастеры — также обладали правами на английскую корону, и кому она достанется, можно было решить только вооруженным путем. И началась война.
В истории она получила наименование «Войны Алой и Белой Розы» или просто «Война Роз» — в гербе Йорков была белая роза, а в гербе Ланкастеров — алая. Она изобиловала драматическими эпизодами и была полна неожиданных поворотов. Вожди кланов и короли гибли в сражениях и на плахе, попадали в плен и бежали из страны, военное счастье было переменчиво, чаши весов войны постоянно колебались, много раз склоняясь то в одну, то в другую сторону.
Наконец, после ряда сражений дом Ланкастеров был почти весь истреблен и на трон взошел лидер Йорков Эдуард IV. Казалось, мирные годы его царствования положили конец династическим войнам. Но его неожиданная смерть все смешала. Оставленного им наследника, 12-летнего мальчика, объявили незаконнорожденным и вместе с братом заточили в королевской тюрьме, а на трон взошел брат умершего короля Ричард Глостер, Ричард III. Небольшого роста, худой, с искривленным в детстве позвоночником, он, тем не менее, стал прекрасным воином, постоянно упражняющимся во владении мечом, мужественным, обладающим незаурядными стратегическими способностями, и при этом жестоким, не останавливающимся ни перед чем в осуществлении своих планов.
По его приказу заточенные принцы были задушены. Ужаснувшись содеянному королем, от него отпал герцог Бэкингем — главная опора трона. Он тайно обратился к одному из последних ланкастеров — к Генриху Ричмонду, жившему на континенте. Генрих был человеком невоинственным, предпочитавшим мирные занятия, но обстоятельства складывались так, что он остался последней надеждой остатков своего клана. Никаких прав на престол он не имел, но трон можно было завоевать. И созрел заговор…
Первая попытка поднять мятеж окончилась для заговорщиков катастрофой. Бэкингем, организовавший в своих владениях вооруженное выступление против короля, потерпел поражение, попал к Ричарду в плен и был казнен. Генрих, набравший небольшой отряд, в основном, из французских наемников, услышав о плачевных результатах выступления Бэкингема, повернул свои корабли прочь от штормовых английских берегов. Но в следующем, 1485 году, он решился высадиться на родине в одиночку, с двумя тысячами солдат, не будучи поддержан мятежом своих союзников.
Оказалось, что у Генриха в Англии много сторонников, и его армия быстро возросла до 6 тысяч человек. И все же этого было недостаточно для победы над 10-тысячной, закаленной в сражениях, армией короля, заступившей дорогу претенденту на трон на Босвортском поле. Надежда была лишь на подошедший к месту битвы отряд лорда Стэнли, до поры сохранявшего нейтралитет, хотя сын его был в заложниках у Ричарда.
Когда началась схватка в центре, Ричард отдал приказ командиру своего правого фланга вступить в битву, но тот не сдвинулся с места. Король послал к стоявшему в стороне отряду Стэнли с приказом помочь ему под угрозой казни его сына, но тот ответил, что у него есть еще сыновья. Ричард приказал убить молодого Стэнли, но слуги не выполнили его приказа. Тогда Ричард, надел на свой шлем корону, собрал 600 своих рыцарей и через все поле поскакал прямо на окруженного своими телохранителями Генриха Ричмонда, чтобы в бою убить претендента и тем закончить сражение. Но тот в личной схватке, чего от него никто не ожидал, оказал своему грозному противнику яростное и упорное сопротивление, пока его рыцари не разделили соперников. И в это время ударил отряд лорда Стэнли, опрокинувший гвардию короля. Сам Ричард, лишившийся коня, отбивался до последнего, и погиб с мечом в руке…
Ричард был бездетен, двоих наследников престола он убил, так что, с его гибелью череда Йорков (как и Ланкастеров), имеющих законное право на английский престол, прервалась. Оставалась лишь сестра погибших мальчиков, на которой и женился новый король, Генрих VII, породнив таким образом тридцать лет воевавшие и взаимоистребившие друг друга аристократические кланы. Взял он для своей новой династии, Тюдоров, и новый герб, в котором соединились Алая и Белая Розы…
Роза Тюдоров с тех пор стала символом Англии (как трилистник — символ Ирландии, а чертополох — Шотландии). Она до сих пор входит в геральдику Великобритании и Канады.
Пока в Европе прорастали робкие еще побеги, грозившие перевернуть ее будущее, у восточной части христианского мира этого будущего уже не было. Великая Империя ромеев доживала последние годы своей более чем двухтысячелетней истории. К 1453 году от нее оставались лишь осколки былого величия. Но Империя считалась живой, пока из последних сил держался Константинополь.
Это была огромная и необыкновенно мощная крепость, которая оказалась не по зубам никому, кто подступал к ее толстым двойным стенам со множеством опорных башен. Только однажды разброд и хаос в рядах ее защитников позволил противнику (крестоносцам) проникнуть в город.
Империя турок-османов отхватывала от Византии кусок за куском, постепенно сдвигая свои границы к западу, и, наконец, в 1396 году турецкая армия осадила Константинополь. Но семь лет блокады оказались безуспешными. Чем закончился бы этот первый османский приступ, так осталось неизвестным — из Средней Азии появился Тамерлан, который нанес туркам страшное поражение в битве под Анкарой. Через двадцать лет новый турецкий приступ завершился штурмом городских стен, в котором нападавшие потерпели сокрушительное поражение и откатились в Малую Азию.
Новый турецкий султан Мехмед II поклялся взять Константинополь и подошел к делу всерьез — методично и основательно. Он извлек уроки из предыдущих неудач и понял, что произошли они оттого, что город постоянно получал помощь из прибрежных городов. И он начал шаг за шагом, город за городом, остров за островом завоевывать греческое побережье — и вскоре весь Балканский полуостров оказался в его руках. Теперь никто не поможет столице. Византийцы могли лишь в бессилии смотреть, как рушится их империя, как затягивается турецкая петля вокруг их столицы.
Помощь могла прийти только с запада, а организовать крестовый поход против мусульман мог только папа. И император вместе с высшими иерархами Восточной церкви в 1439 году плывет в Италию на объединительный Собор (в Ферраре и Флоренции), чтобы преодолеть церковный раскол, чтобы османам противостояло единое христианство. Оставив былое высокомерие, восточные епископы исследовали богослужебные особенности латинского обряда и нашли их непротиворечащими основам христианства, но при этом оговорились, что вводить у себя латинские церковные обычаи не будут. Они практически единодушно подписали итоговую резолюцию Собора, что означало воссоединение восточной и западной Церквей. Однако неприятие всего западного, «латинского» в среде восточного духовенства и прихожан было столь велико, что почти все епископы после возвращения в свои епархии отозвали свои подписи.
Но даже если бы церковное объединение и состоялось, это вряд ли изменило бы судьбу Константинополя. После всем памятного сокрушительного поражения собранной со всей Европы рыцарской армии от турок в битве при Никополе, воевать на Востоке желающих было мало. Руку помощи Константинополю протянули лишь итальянские торговые республики, имевшие здесь свои интересы, но их сил было явно недостаточно. А окрепшая Османская империя имела на пороге Европы столь большой перевес, что византийская столица была обречена, и ее падение было лишь вопросом времени.
Столица ромейской империи пришла в упадок — на огромной городской территории жило теперь не более 50 тысяч человек. Стены и башни, давно не обновляемые, ветшали, но починить их на всем протяжении сил уже не было.
Султан начал строительство крепости на выходе из Босфора, отрезающей Константинополь от черноморского хлеба. Представители императора, посланные узнать, зачем строится крепость, уехали без ответа, а послы, поехавшие туда во второй раз, были обезглавлены. Это было объявлением войны.
Весной 1453 года турецкая армия раскинула шатры у стен Константинополя. В ней было 120 тысяч регулярных бойцов и 20 тысяч башибузуков. Количество турецких кораблей было достаточным, чтобы надежно заблокировать город с моря.
Башибузук — «с неисправной головой» (в буквальном переводе с турецкого), что в современном русском соответствует «больной на всю голову», «безбашенный». Нерегулярные войска турецкой армии, которых набирали в наиболее воинственных племенах империи, давали оружие, но жалования не платили. Отличались отсутствием дисциплины и невероятной жестокостью.).
Ромеи сумели вывести на стены всего 7 тысяч человек. Прибыл отряд гэнуэзских добровольцев, небольшой отряд выставила община каталонцев, свой отряд сформировала и венецианская община Константинополя. За оружие взялись и монахи городских монастырей. Свою часть стены охраняли и мусульмане, люди претендента на османский престол.
Началась осада. Артиллерия была сосредоточена на месте впадения в город речки, снабжавшей осажденных пресной водой. Бомбардировка узкого участка стены продолжалась шесть недель. По ночам защитники восстанавливали разрушенное. Несколько раз турки ходили на штурм, и всякий раз бывали отбиты. Пленных после этого демонстративно казнили перед глазами их товарищей обе стороны.
Константинопольцы дрались отчаянно. В одном месте турки сумели подтащить к полуразрушенной бомбардами стене свою осадную башню. Но защитники ночью сумели восстановить разрушенное, снова откопать засыпанный турками ров и взорвать бочонком пороха османскую башню. Турки начали копать туннель под стену, но защитники услышали шум подземной работы, подвели под турецкий подземный ход свой подкоп и взорвали его.
В ночь с 28 на 29 мая турецкие войска по всей линии предприняли решающий штурм. В эту ночь на стенах были все, способные носить оружие, включая самого императора. Двухчасовой штурм башибузуков был отбит, после них на стены полезли регулярные части турок. Удачным выстрелом полутонного ядра из огромной пушки была снесена крепостная башня и три сотни турок ворвались в город, но были там окружены и перебиты. На другой день сам султан подвел свою янычарскую гвардию к стене — и начался последний штурм. Турки случайно обнаружили скрытую калитку, через которую защитники города совершали неожиданные вылазки, и прорвались в город. Император во главе своего отряда пошел в контратаку и был убит. Поднявшись, наконец, на стену, турки рассеяли защитников и стали открывать ворота. Бой продолжался на улицах, константинопольцы дрались насмерть, пленных у турок почти не было…
Византийская империя прекратила своё существование, ее земли вошли в состав Османского государства. Грекам султан даровал права самоуправляющейся общины внутри империи, во главе общины должен был стоять Константинопольский патриарх. Сам султан, считая себя преемником византийского императора, принял титул Кайзер-и Рум (Цезарь Рима). Этот титул турецкие султаны носили до окончания Первой мировой войны.
Стефан Цвейг
«Звездные часы человечества»
Какое наважденье, чей увет
Меня бросает безоружным в сечу,
Где лавров я себе не обеспечу,
Где смерть несчастьем будет. Впрочем, нет:
Настолько сладок сердцу ясный свет
Прекрасных глаз, что я и не замечу,
Как смертный час в огне их жарком встречу,
В котором изнываю двадцать лет.
Я чувствую дыханье вечной ночи,
Когда я вижу пламенные очи
Вдали, но если их волшебный взгляд
Найдет меня, сколь мука мне приятна —
Вообразить, не то что молвить внятно,
Бессилен я, как двадцать лет назад.
Есть существа, которые глядят
На солнце прямо, глаз не закрывая;
Другие, только к ночи оживая,
От света дня оберегают взгляд.
И есть еще такие, что летят
В огонь, от блеска обезумевая:
Несчастных страсть погубит роковая;
Себя недаром ставлю с ними в ряд.
Красою этой дамы ослепленный,
Я в тень не прячусь, лишь ее замечу,
Не жажду, чтоб скорее ночь пришла.
Слезится взор, однако ей навстречу
Я устремляюсь, как завороженный,
Чтобы в лучах ее сгореть дотла.
Я счастлив больше, чем гребцы челна
Разбитого: их шторм загнал на реи —
И вдруг земля, все ближе, все яснее,
И под ногами наконец она;
И узник, если вдруг заменена
Свободой петля скользкая на шее,
Не больше рад: что быть могло глупее,
Чем с повелителем моим война!
И вы, певцы красавиц несравненных,
Гордитесь тем, кто вновь стихом своим
Любовь почтил, — ведь в царствии блаженных
Один раскаявшийся больше чтим,
Чем девяносто девять совершенных,
Быть может здесь пренебрегавших им.
Пустился в путь седой как лунь старик
Из отчих мест, где годы пролетели;
Родные удержать его хотели,
Но он не знал сомнений в этот миг.
К таким дорогам дальним не привык,
С трудом влачится он к заветной цели,
Превозмогая немощь в древнем теле:
Устать устал, но духом не поник.
И вот он созерцает образ в Риме
Того, пред кем предстать на небесах
Мечтает, обретя успокоенье.
Так я, не сравнивая вас с другими,
Насколько это можно — в их чертах
Найти стараюсь ваше отраженье.
Коль жизнь моя настолько терпелива
Пребудет под напором тяжких бед,
Что я увижу вас на склоне лет:
Померкли очи, ясные на диво,
И золотого нет в кудрях отлива,
И нет венков, и ярких платьев нет,
И лик игрою красок не согрет,
Что вынуждал меня роптать пугливо, —
Тогда, быть может, страх былой гоня,
Я расскажу вам, как, лишен свободы,
Я изнывал все больше день от дня,
И если к чувствам беспощадны годы,
Хотя бы вздохи поздние меня
Пускай вознаградят за все невзгоды.
ИСПОВЕДЬ
Коли ты услышишь что-нибудь обо мне — хотя и сомнительно, чтобы мое ничтожное и темное имя проникло далеко сквозь пространство и время, — то тогда, быть может, ты возжелаешь узнать, что за человек я был и какова была судьба моих сочинений, особенно тех, о которых молва или хотя бы слабый слух дошел до тебя.
Суждения обо мне людей будут многоразличны, ибо почти каждый говорит так, как внушает ему не истина, а прихоть, и нет меры ни хвале, ни хуле.
Был же я один из вашего стада, жалкий смертный человек, ни слишком высокого, ни низкого происхождения. Род мой… — древний. И по природе моя душа не была лишена ни прямоты, ни скромности, разве что ее испортила заразительная привычка.
Юность обманула меня, молодость увлекла, но старость меня исправила и опытом убедила в истинности того, что я читал уже задолго раньше, именно, что молодость и похоть — суета; вернее, этому научил меня Зиждитель всех возрастов и времен, который иногда допускает бедных смертных в их пустой гордыне сбиваться с пути, дабы, поняв, хотя бы поздно, свои грехи, они познали себя.
Мое тело было в юности не очень сильно, но чрезвычайно ловко, наружность не выдавалась красотою, но могла нравиться в цветущие годы; цвет лица был свеж, между белым и смуглым, глаза живые и зрение в течение долгого времени необыкновенно острое, но после моего шестидесятого года: оно, против ожидания, настолько ослабло, что я был вынужден, хотя и с отвращением, прибегнуть к помощи очков. Тело мое, во всю жизнь совершенно здоровое, осилила старость и осадила обычной ратью недугов.
Я всегда глубоко презирал богатство, не потому, чтобы не желал его, но из отвращения к трудам и заботам, его неразлучным спутникам. Не искал я богатством стяжать возможность роскошных трапез, но, питаясь скудной пищей и простыми яствами, жил веселее, чем все последователи Апиция с их изысканными обедами.
Так называемые пирушки (а в сущности, попойки, враждебные скромности и добрым нравам) всегда мне не нравились; тягостным и бесполезным казалось мне созывать для этой цели других, и не менее — самому принимать приглашения. Но вкушать трапезу вместе с друзьями было мне так приятно, что никакая вещь не могла доставить мне большего удовольствия, нежели их нечаянный приезд, и никогда без сотрапезника я не вкушал пищи с охотою.
Более всего мне была ненавистна пышность, не только потому, что она дурна и противна смирению, но и потому, что она стеснительна и враждебна покою. От всякого рода соблазнов я всегда держался вдалеке не только потому, что они вредны сами по себе и не согласны со скромностью, но и потому, что враждебны жизни размеренной и покойной.
В юности страдал я жгучей, но единой и пристойной любовью и еще дольше страдал бы ею, если бы жестокая, но полезная смерть не погасила уже гаснущее пламя. Я хотел бы иметь право сказать, что был вполне чужд плотских страстей, но, сказав так, я солгал бы; однако скажу уверенно, что, хотя пыл молодости и темперамента увлекал меня к этой низости, в душе я всегда проклинал ее. Притом вскоре, приближаясь к сороковому году, когда еще было во мне и жара и сил довольно, я совершенно отрешился не только от мерзкого этого дела, но и от всякого воспоминания о нем, так, как если бы никогда не глядел на женщину; и считаю это едва ли не величайшим моим счастием и благодарю Господа, который избавил меня, еще во цвете здоровья и сил, от столь презренного и всегда ненавистного мне рабства.
Но перехожу к другим вещам. Я знал гордость только в других, но не в себе; как я ни был мал, ценил я себя всегда еще ниже. Мой гнев очень часто вредил мне самому, но никогда другим. Смело могу сказать — так как знаю, что говорю правду, — что, несмотря на крайнюю раздражительность моего нрава, я быстро забывал обиды и крепко помнил благодеяния. Я был в высшей степени жаден до благородной дружбы и лелеял ее с величайшей верностью. Но такова печальная участь стареющих, что им часто приходится оплакивать смерть своих друзей.
Благоволением князей и королей и дружбою знатных я был почтен в такой мере, которая даже возбуждала зависть. Однако от многих из их числа, очень любимых мною, я удалился; столь сильная была мне врождена любовь к свободе, что я всеми силами избегал тех, чье даже одно имя казалось мне противным этой свободе.
Величайшие венценосцы моего времени, соревнуясь друг с другом, любили и чтили меня, а почему — не знаю: сами не ведали; знаю только, что некоторые из них ценили мое внимание больше, чем я их, вследствие чего их высокое положение доставляло мне только многие удобства, но ни малейшей докуки.
Я был одарен умом скорее ровным, чем проницательным, способным на усвоение всякого благого и спасительного знания, но преимущественно склонным к нравственной философии и поэзии. К последней я с течением времени охладел, увлеченный священной наукою, в которой почувствовал теперь тайную сладость, раньше пренебреженную мною, и поэзия осталась для меня только средством украшения.
С наибольшим рвением предавался я изучению древности, ибо время, в которое я жил, было мне всегда так не по душе, что если бы не препятствовала тому моя привязанность к любимым мною, я всегда желал бы быть рожденным в любой другой век и, чтобы забыть этот, постоянно старался жить душою в иных веках.
Поэтому я с увлечением читал историков, хотя их разногласия немало смущали меня; в сомнительным случаях я руководствовался либо вероятностью фактов, либо авторитетом повествователя.
Моя речь была, как утверждали некоторые, ясна и сильна; как мне казалось — слаба и темна. Да и в обыденной беседе с друзьями и знакомыми я и не заботился никогда о красноречии, и потому я искренне дивлюсь, что кесарь Август усвоил себе эту заботу.
Но там, где, как мне казалось, самое дело, или место, или слушатель требовали иного, я делал некоторое усилие, чтобы преуспеть; пусть об этом судят те, пред кем я говорил. Важно хорошо прожить жизнь, а тому, как я говорил, я придавал мало значения, тщетна слава, приобретенная одним блеском слова.
…