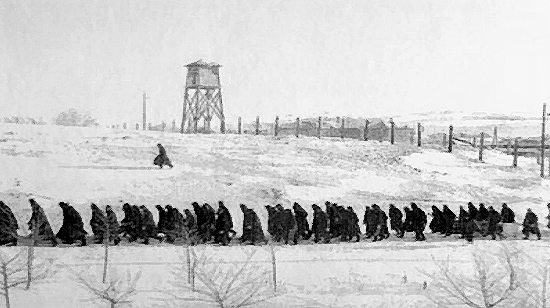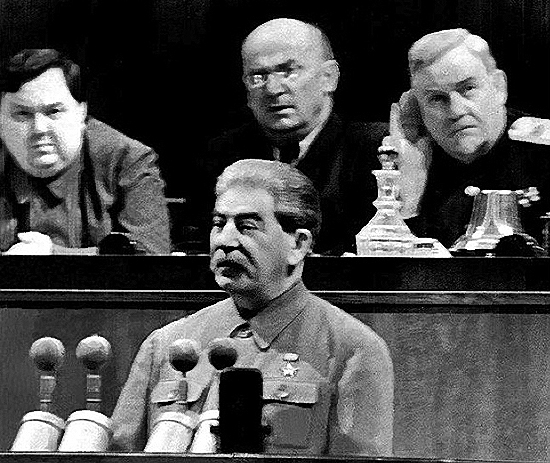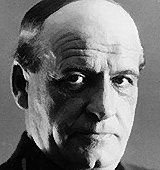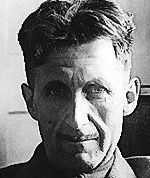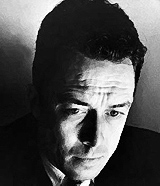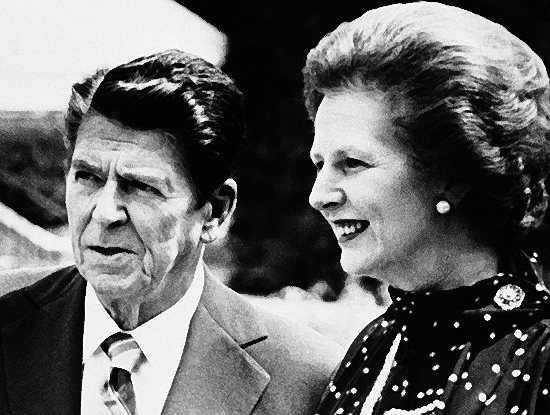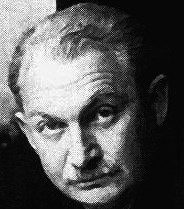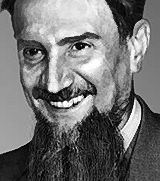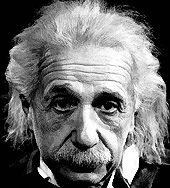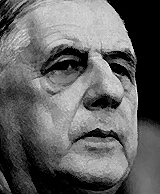Чем отличалось послевоенное восстановление хозяйства после гражданской и Великой Отечественной войны?
Почему?
А и вправду — почему?
Почему после той гражданской начали с отраслей, продукция которых была нужна населению, а после Отечественной все силы и средства были брошены на военные «железки»?
Почему после гражданской резко снизили государственные налоги, а после Отечественной они взлетели в небесную высь?
Почему после гражданской населению была дана возможность кормиться самому, а после Отечественной оно продолжило жить «от государства» (хотя в руки государства стекался все тот же овеществленный труд населения)?
Почему после гражданской деятельность карательных служб была введена хоть в какое-то подобие законных рамок, а после Отечественной об этом никто даже не заикнулся?
Чуть больше двадцати пяти лет прошло между окончанием этих войн, а как изменилось отношение государства к населению страны… А, может быть, это было уже другое население?
Именно двадцатипятилетиями в статистике народонаселения считаются поколения: родился человек — выучился и начал работать — родил следующее поколение. Так что, за самые бурные в российской истории двадцать пять лет родилось, выросло и стало определять облик страны новое поколение. И это было поколение, впервые в российской истории целенаправленно воспитанное в определенном ключе всей пропагандистской мощью тоталитарного государства.
Тут многое, что можно сказать, но хотелось бы обратить внимание на изменения, о которых мы еще не говорили.
Большинство в любой стране живет той жизнью, которая ему на этом отрезке исторического времени достается. И в любой стране есть слой людей активных, самостоятельных, постоянно принимающих собственные решения и их осуществляющих, берущих на себя ответственность за происходящее вокруг и активно влияющих на события в самых разнообразных областях. Их обычно не так уж много, но именно их деятельность в конечном итоге определяет жизнь всех остальных.
Это о них сказал две тысячи лет тому назад Иисус из Назарета: «Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям».
Научных исследований о структуре народов тогда еще не было, но диктаторы-«практики» прекрасно сознавали, как поступать с народом, чтобы увековечить свое всевластие:
«…Одним ударом перебить в моральном смысле спинной хребет народа, навсегда растоптать и обратить в прах»; «В такой войне уже не будет победителей и побежденных, – будут оставшиеся в живых и такие, имя которых будет вычеркнуто из списка народов»; «Избранные [elite] лежат отравленные и растоптанные на полях битв. А оставшиеся в живых – толпа, лишенная предводителей, деморализованная куча людей, истерзанных, душевно сломленных неистовыми ужасами и страданиями. Безоружные, безвольные, они отданы как добыча победителю, они – глина в руках горшечника». Сильно сказано. Так Гитлер высказался по поводу войны с Польшей и дальнейшей судьбы этой страны.
А это уже его наместник в побежденной Польше, Франк:
«Фюрер сказал мне: «…То, что мы сейчас определили как руководящий слой в Польше, нужно ликвидировать; то, что вновь вырастает на смену ему, нам нужно обезопасить и в пределах соответствующего времени снова устранить». Речь может идти только об устранении руководящего слоя, а работящий народ должен выполнять полезную работу под нашей властью…»
Сталин таких откровенных и наглых заявлений не делал, но планомерно и последовательно проводил тот же план и на присоединенных территориях, и внутри собственной страны.
Искусственное изъятие слоя активных, своей головой думающих и «по своему загаду» делающих людей превращает народ в население. Посмотрим под этим углом зрения, что сталось с нашим народом в 20 веке:
— в гражданской войне погиб или ушел за границу весьма «энергонасыщенный» правящий слой Российской империи;
— на той же войне выдвинулись люди, которые во множестве оказались «зелеными» партизанскими командирами-атаманами — этих порубили в ходе самой войны;
— множество активных людей пошло в «красную» армию — и там погибло;
— оставшиеся в живых через десять лет провели «коллективизацию» в деревне, выбив народившийся там слой активных сельских хозяев;
— с середины 30-х годов настал и их черед — массовые репрессии уничтожили практически весь активный «коммунистический» слой;
— та же волна репрессий смыла и весь командный слой армии, первое поколение «советского» офицерства;
— на Отечественной полегло столько народу, что, кажется, нечего говорить о каком-либо отборе ее жертв. Однако и здесь он действовал — на фронте ведь с гарантией погибали именно те, кто первым подымался в атаку, ведя за собой всех остальных…
Так что, приходится признать, что мы все, ныне живущие в нашем отечестве — потомки выживших в том проклятом для нашей страны 20 веке.
Но проблема каждого тоталитарного диктатора заключается в том, что окончательно истребить этот опасный для него активный слой невозможно. Такие люди рождаются и растут постоянно, в каждом поколении — население все время норовит превратиться в народ. Приходится «выстригать» их вновь и вновь, не останавливаясь, покуда жизни хватит. Но жизнь «сталиных» не вечна — она кончается, как закончилась она 5 марта 1953 года и для Иосифа Виссарионовича.
На заданный в начале вопрос можно ответить просто и коротко: сталинскому режиму, в отличие от большевистской власти в 1921 году, больше не угрожало никакое явное сопротивление подведомственных ему людей. Поэтому можно было и «гайки закручивать» вплоть до физиологического предела людского выживания. А вот вопрос почему?, как видите, начинает разговор долгий и трудный…
ПОМПЕЗНЫЙ. Когда нечто, аляповато, безвкусно оформленное, очень велико по размерам, да еще и откровенно претендует на величественность, торжественность, его называют помпезным. Такими помпезными обычно бывают высокоторжественные государственные празднества и всенародные юбилеи.
Два мира — две «системы»
Послевоенная ситуация в СССР. Международное отчуждение, в котором Советский Союз фактически оказался после революции и последующих событий, исчезло. Вырос не только мировой авторитет государства, но и популярность страны – повсеместно возникли симпатии ко всему «русскому» и благожелательный интерес ко всему «советскому». По всему периметру советских границ не было сил, могущих хоть сколько-нибудь серьезно угрожать их безопасности – ни в настоящем, ни в обозримом будущем.
С фронтов возвращались солдаты и офицеры, многие из которых привыкли к самостоятельности в своих решениях и к личной, внутренней ответственности за собственные действия. Миллионы из них впервые побывали за границами страны и могли сравнить строй жизни у других народов со строем советским (и часто не в пользу последнего). Возвращались с ощущением, что после всего пережитого «сам черт им не брат!». Привычку и вкус к самостоятельности и инициативе приобрели и многие хозяйственники, руководители производства. Война всех приучала жить и действовать не по начальственным трафаретам, а «по существу». У людей была надежда, что после того, как народ «отломал» такую войну, жизнь в стране изменится.
Даже в высших «эшелонах власти» стали появляться и обсуждаться весьма смелые проекты послевоенного устройства, какие были немыслимы уже лет пятнадцать. Были предложения постепенно свернуть «классовую борьбу» внутри страны (что на языке того времени означало если не прекратить, то, по крайней мере, ослабить массовый террор). Поговаривали о целесообразности провести восстановление народного хозяйства испробованными методами НЭПа – начать с «оживления» легкой и пищевой промышленности, сельского хозяйства; расширить возможности для мелкого, но массового личного производства и торговли; хотя бы частично перевести на самоокупаемость госпредприятия; дать республикам и областям право самим решать многие свои проблемы и т. д.
Конечно, о пересмотре основ строя и не помышлялось, но стремление чуть «приотпустить вожжи», безусловно, было. Разговоры разговорами, но все при этом смотрели на Сталина – у вождя же, судя по всему, были другие расчеты.
Восстановление экономики. Восстановление промышленности велось довольно быстрыми темпами (во многом за счет германских репараций – вывезенное немецкое оборудование составило половину введенных в строй в послевоенной пятилетке новых производственных мощностей). Но это было в основном восстановление все того же военно-промышленного комплекса – 88% всех капиталовложений уходило в добычу ископаемых, металлургию, машиностроение, в разработку и производство новых, все более разрушительных (и все более дорогих) видов оружия. Огромные средства поглощал «атомный» проект [по приблизительным подсчетам, затраты на создание атомной бомбы стоили СССР более половины затрат на ведение Великой Отечественной войны]. Кроме атомной программы развернулось строительство большого океанского надводного флота и перевооружение ВВС реактивными боевыми самолетами.
Так и оставшиеся прозябать «на задворках» отрасли легкой и пищевой промышленности не в состоянии были обеспечить даже самые минимальные потребности неприхотливого советского населения.
Разоренное сельское хозяйство и так давало лишь 60% довоенного объема продовольствия, а тут еще 1946 год принес новое несчастье – недород на Украине, в Молдавии, на Северном Кавказе повлек за собой памятный старшему поколению голод, воскресивший в деревне страшные картины четырнадцатилетней давности. Но «первая заповедь» для колхозов – сначала сдать все, что требует государство, а потом уже думать о себе – осталась незыблемой.
Восемь послевоенных лет похоронили надежды населения страны на то, что неимоверный и всеобщий труд по восстановлению порушенного хозяйства будет приводить и к соответствующему улучшению жизни. Всякие разговоры о возможности «смягчения» режима пресеклись и было объявлено, что партия берет курс на «завершение строительства социализма и построение коммунизма»… Именно первые послевоенные годы люди вспоминали позже как самое тяжкое время – и в материальном, и в психологическом отношении.
Город. Государство обеспечивало прежде всего горожан, рабочих, наращивавших военно-промышленную мощь государства, но «тянули» и отсюда – как и прежде, до полутора месячных зарплат нужно было «добровольно-принудительно» отдать за бумажные облигации государственных займов. Рабочий день вернулся к 8-часовой норме, перестали быть законодательно-обязательными сверхурочные, но основная часть предвоенных «трудовых» законов осталась без изменений (за самовольный уход с предприятия, за прогулы и опоздания на работу, за невыполнение обязательной производственной нормы в городе и в деревне суды приговорили к различным срокам уголовного наказания за 8 послевоенных лет 6 миллионов человек). Жилья строилось мало (да и то в основном «барачного» типа), зато немалые средства вкладывались в помпезные здания в центрах больших городов с массой лепных украшений и скульптурами («архитектура должна соответствовать духу нашей великой эпохи»).
Накопления населения были практически ликвидированы денежной реформой 1947 года, когда старые купюры отменили, а на новые обменивались лишь вклады в государственных сберкассах в ограниченном количестве. Преподносилось это как конфискация неправедно нажитых денег спекулянтов, но основной доход в этой операции государство получило от ликвидации мелких, но массовых семейных «заначек», хранившихся, как правило, дома.
Снабжение городского населения по карточкам держалось на уровне физического выживания. Когда в 1947 году карточки отменили, то оказалось, что магазинные цены вдвое-втрое превышают их довоенный уровень (в дальнейшем их регулярное снижение с этой начальной отметки каждый раз преподносилось, как знак «неустанной заботы партии о народе»).
Деревня. Как ни трудна была в эти годы жизнь горожан, основную тяжесть «социалистическая» империя взвалила, как всегда, на закрепощенную и бессловесную, но еще многочисленную деревню.
Формально колхозы свою продукцию государству продавали, но назначенные им цены были столь мизерны, что эти «закупки» госбюджет явно не обременяли. В каждом пятом колхозе работа на «общественных» полях и фермах вообще не оплачивалась, в большинстве остальных за отработанные трудодни платили сущие гроши, прожить на которые было невозможно. Ни оплачиваемых больничных листов, ни пенсий по старости деревенским жителям не полагалось.
Выручали приусадебные участки, но велось наступление и на них – за четыре послевоенных года от многочисленных «урезок» площадь их сократилась больше, чем на 10 миллионов гектаров. Каждый такой участок облагался налогом – колхозник должен был не только практически бесплатно трудиться в бригаде, но и со своего личного клочка отдавать «в закрома родины» бесплатно молоко, мясо, шерсть, яйца. После сдачи такого личного налога колхознику можно было остатки своих продуктов везти на рынок, но там прежде всего надо было показать справку, что полностью сдал урожай государству его родной колхоз (а то не допустят к прилавку). После этого выяснялось, что в очередной раз повышен еще один налог – с выручки от рыночной продажи. В 1948 году последовал новый удар: налог с личного хозяйства фактически был увеличен в 2,5 раза [к 1950 году колхозник должен был со своего приусадебного хозяйства платить налогов в 4,3 раза больше, чем десять лет назад], а в 1952 году налог стал взиматься даже с мизерной оплаты по колхозным трудодням, чего не делалось даже в войну. Кроме того, государство «порекомендовало» колхозникам «продать» ему их личный мелкий скот – в паническом массовом забое в крестьянских хлевах было прирезано около 2-х миллионов голов свиней, овец, коз…
Покинуть деревню беспаспортный колхозник не мог. Молодые деревенские парни старались не возвращаться свой колхоз после службы в армии – большинство из них устраивались в городах или рабочих поселках на любых условиях.
Жизненный уровень колхозника был ниже, чем у городского рабочего, вчетверо.
ГУЛАГ. По амнистии в честь Победы из заключения вышли осужденные за грабеж, кражи личного имущества, хулиганство, изнасилование, дезертирство из армии (!), вполовину уменьшили срока растратчикам и расхитителям госимущества. Вскоре выяснилось, что они освобождали «посадочные места» для новых массовых потоков.
Лагерные нары заполнились «бывшими военнослужащими Красной армии» («бывшими» они официально признавались с момента пленения вне зависимости от его обстоятельств), «перемещенными лицами» (советскими гражданами, угнанными нацистами в Германию), «полицаями» и вообще всеми, кто хотя бы косвенно сотрудничал с немцами на оккупированных территориях, «бандеровцами» из 300-тысячного западноукраинского партизанского подполья, «лесными братьями» из Прибалтики, продолжавшими сражаться с советской властью и после окончания войны, а также многими другими истинными или мнимыми врагами социалистического государства [герой Сталинграда генерал-полковник Гордов, генерал-предатель Власов и пойманный в Китае «белый» казачий атаман Семенов, казненные в один день, были похоронены в одной общей могиле]. Исправно, как и раньше, продолжала пополнять лагерное население и традиционная 58-я статья.
В 1947 году власти резко ужесточили наказания за хищения государственного и колхозного имущества – теперь по «закону о трех колосках» суды обязаны были давать виновным 20 лет лагеря, а за хищение заводских материалов – 25 лет (а тому, кто видел, как его товарищ кладет в карман хотя бы горсть гвоздей, и не донес об этом начальству, полагалось отсидеть за это 3 года).
В 1947–1948 годах заканчивался «стандартный» десятилетний срок у массы «зэков», попавших в лагеря в 1937–1938 годах и сумевших там выжить. Возвращать их в общество сочли опасным. Части из них без лишней волокиты «оформили» новые приговоры (как правило, уже «четвертаки» – 25 лет), те же, кому повезло больше, отправлялись в отдаленные районы в пожизненную ссылку.
Идеология и пропаганда. Глобальные внешнеполитические задачи, которые поставило перед собой государство, требовали идейного обоснования и пропагандистского обеспечения.
Тридцать лет борьбы коммунистического движения выявили несбыточность надежд на то, что в развитых странах мира может вспыхнуть революция и установиться «диктатура пролетариата». С другой стороны, опыт сороковых годов показал, что успешные общественные перевороты в разных странах возможны – но только при условии попадания этих стран в зону военного, экономического и политического государственного контроля Советского Союза. Стало ясно, что в мировом распространении коммунизма решающую роль будет играть не «коминтерновская» подрывная работа, а военно-промышленная мощь и активная внешняя политика самого советского государства – предстояла долгая и упорная борьба с западными державами за постепенное расширение «зон контроля» СССР в различных районах планеты.
Вместе с изменением общей стратегии изменились содержание и тон советской пропаганды. Романтика «мировой революции» и «интернационализма» была задвинута на второй план, а лозунг «У пролетария нет своего отечества!» исчез вовсе. Вместо этого стала усиленно эксплуатироваться идея «советского» «социалистического» патриотизма.
Естественный, глубинный патриотизм, любовь к своей родине, приверженность к своим историческим корням с особой силой проявилась у народов страны во время нацистского нашествия, когда возникла угроза национального порабощения. Все тогда понимали, что идет война не «классовая», не «революционная», а Отечественная, что в этой войне народы (вне зависимости от их общественного строя) борются за свое национальное выживание. Именно это настроение и подхватила официальная пропаганда, видоизменив и направив его в «нужную» сторону.
Сложность для идеологов режима заключалась в том, что СССР был государством многонациональным. Но выход из положения нашли: все народы, утверждала пропаганда, живут в одном государстве и при едином общественном строе, и поэтому все идет к тому, что они в конце концов сольются в некоей новой общности под названием «советский народ», а пока этого еще не произошло, «главным» народом государства является народ русский [сразу после войны старый официальный государственный гимн «Интернационал» («Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов») был заменен на новый со словами: «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь»]. Возрождение национального самосознания других народов СССР, обращение к исторической памяти нерусских народов по-прежнему объявлялось «буржуазным национализмом» (со всеми вытекающими из этого, по тем временам, последствиями)
По всем каналам массового воспитания – от детских садов до исторических публикаций – начали усиленно внушаться мысли о национальной исключительности русского народа, о том, что именно Россия – родина большинства важнейших научных открытий и изобретений, что расширение границ Российской империи всегда было только благом для соседних народов (а сопротивление ему объяснялось исключительно происками иностранной агентуры). Всякое иностранное влияние на развитие страны или отрицалось, или объявлялось безусловным злом. Целенаправленно и последовательно создавался образ врага-иноземца (в особенности – западного), плетущего сети коварных интриг против всего русского.
За всем этим стояли вполне конкретные цели и задачи – обосновать отказ от продолжения послевоенного сотрудничества с западными демократиями; вновь психологически запереть население в «осажденную крепость социализма», окруженную со всех сторон вчерашними союзниками, ставшими ныне злейшими врагами; внутренне подготовить людей к новым трудностям и лишениям ради высших государственных интересов (которые выдавались за кровные интересы всего народа).
Борьба с «низкопоклонством перед Западом» велась всерьез и на высшем накале – в лагеря пошел новый поток «государственных преступников», осужденных за положительные (или недостаточно ругательные) отзывы о жизни за границей, об иностранной науке и технике, вернувшихся из загранкомандировок, имевших неосторожность пообщаться с иностранцами внутри страны и т. д. (в приговорах судов замелькали стандартные формулировки: ВАТ – «восхваление американской техники», ВАД – «восхваление американской демократии», ПЗ – «преклонение перед Западом», «лица, опасные по своим антисоветским связям»).
Но иностранцев в СССР было мало, поэтому решили «оттачивать» патриотизм населения на более «доступном материале» – на советских евреях. По всей стране развернулась широкая кампания борьбы с «безродными космополитами» («людьми без родины»), антисемитизм насаждался повсеместно, став фактически государственной политикой – покатилась волна посадок и расстрелов прежде всего евреев-интеллигентов (так, был физически уничтожен почти весь состав Еврейского антифашистского комитета, в военную пору по всему миру собиравший для СССР средства на войну с нацистской Германией). Пиком этой «охоты» стало так называемое «дело врачей» 1953 года, когда большая группа известнейших медиков (в большинстве, кстати, русские, но упор делался именно на врачах-евреях) попала под обвинения в намеренно-неправильном лечении руководителей партии и государства.
Всеобщая истерия на этой почве доходила до того, что люди опасались обращаться за медицинской помощью в страхе перед «убийцами в белых халатах». По всему было похоже, что готовится массовая высылка еврейского населения (по образцу калмыков, чеченцев и т. д.).
Одновременно жестко приструнили деятелей культуры, ощутивших было после войны некоторую внутреннюю свободу, без которой немыслимо никакое творчество. ЦК партии дал мощный «залп» грозных постановлений о литературе, кино, музыке, печати, которые поименно выдали на травлю «чуждых» писателей, поэтов, композиторов, кинематографистов.
Погромные «дискуссии», на которых выискивались и официально утверждались свои «враги», прошли практически во всех науках. Ничего общего с настоящими научными спорами эти «дискуссии» не имели – борьба шла за «марксистско-ленинскую чистоту» научных разработок.
«Идейные» карьеристы получили прекрасную возможность свести счеты со своими соперниками и ошельмовать настоящих ученых, для которых была важна сама наука, а не идеологическая возня вокруг нее. Серые бездарности окончательно захватили командные посты во всех научных сферах, были осуждены и закрыты многие перспективные направления исследований (например, генетика, кибернетика-информатика, социология, объявленные «буржуазными лженауками»).
Менялся общий настрой, дух государственной жизни – в могучей, осознавшей свою силу империи уже не было места даже тем последним остаткам революционной эпохи, которые еще сохранялись в 30-е годы. Народные комиссары вновь стали называться министрами, все государственные чиновники оделись в форменные мундиры. По образцу дореволюционных гимназий школы разделили на мужские и женские; ввели и обязательную школьную форму, тоже очень напоминавшую «царские» времена.
Обстановка «в верхах». Сталин гордился своим хорошим знанием российской истории и, судя по всему, извлек урок из событий полуторавековой давности, когда вернувшиеся из победоносного европейского похода офицеры составили заговор против трона. Органы госбезопасности начали арестовывать ближайших сотрудников прославленных полководцев Великой Отечественной и выбивать из них «признания» о готовящемся «заговоре». Но военачальники могли понадобиться в любой момент, а потому повторения армейской «большой чистки» не последовало – в тюрьму были посажены «лишь» несколько высших командиров, остальных же маршалов (под «топором» уже заготовленных обвинений) разослали по округам под плотный надзор Особых отделов.
За время войны в партийное и государственное руководство выдвинулось немало людей нового поколения, готовых в любой момент заменить «старую сталинскую гвардию» в ближайшем окружении вождя. Особенно многочисленный клан привел с собой из Ленинграда в Кремль влиятельный секретарь ЦК по идеологии Жданов. Но его смерть похоронным звоном отозвалась почти для всех его выдвиженцев – в 1948 году было расстреляно (как всегда, по самым нелепым обвинениям) две сотни высокопоставленных чиновников, некоторые из которых занимали уже должности около самой вершины власти («ленинградское дело»). «Старая гвардия», казалось, восстановила и упрочила свои позиции, но впереди ее ждали новые опасности.
О регулярных съездах в партии уже давно забыли. Однако в конце 1952 года престарелый вождь после тринадцатилетнего перерыва созвал ХIХ съезд ВКП(б) [на нем партия сменила название на КПСС (Коммунистическая партия Советского Союза)]. Выступить на нем с большим отчетным докладом Сталину было уже не по силам, но все нити управления он держал в своих руках по-прежнему крепко. Во вновь избранные высшие партийные органы он ввел многих новых, ранее не слишком известных партийных чиновников, ослабивших влияние прежних соратников вождя.
У опытнейших кремлевских интриганов не оставалось сомнений – «Хозяин» начинает новую «большую игру» по смене своего ближнего окружения, и ставкой в ней, как всегда, будет тюрьма, пытка и казнь. Уже была арестована жена Молотова, явно сгущались тучи над Кагановичем, Ворошиловым, даже над Берией (начались неподконтрольные ему аресты в «органах»). Из «стариков», пожалуй, только секретари ЦК Хрущев и Маленков чувствовали себя пока в относительной безопасности.
Каким новым взрывом внутрипартийного террора все это могло кончиться, так и осталось неизвестным – 5 марта 1953 года Иосиф Сталин умер.
Сверхцентрализованный и жесткий режим в советской империи скреплялся железной волей, беспощадной жестокостью обожествленного «вождя всех народов» – Иосифа Сталина. За четверть века его безраздельной диктатуры выросли поколения, не знавшие и даже не представлявшие себе никакой иной жизни, иных ценностей, иного мира. Они знали, что в Кремле есть негаснущее ночи напролет окно, за которым работает мудрый и грозный, обожаемый и справедливый Хозяин – тот, кто взвалил на себя всю тяжесть ответственности за все, тот, кто думает и решает за всех, тот, кто никогда не ошибается и всегда побеждает. Казалось кощунством даже помыслить, что он смертен, что страна сможет жить без его недреманного отеческого пригляда. Но в тот день для всех этих людей кремлевское окно погасло.
То, что происходило в эти дни, походило на массовый психоз: под траурные мелодии радио рыдали дети раскулаченных по его указам крестьян, родные и близкие тех, кого вождь стер в «лагерную пыль», семьи солдат, погубленных генералиссимусом в 1941-м. В толпе, рвавшейся к его гробу, были задавлены и искалечены сотни людей. Все они – и живые, и мертвые – тоже были наследием диктатора.
Итоги сталинской диктатуры. СССР в начале 50-х годов представлял собой мощную военно-промышленную сверхдержаву. По общему объему производства он уже прочно удерживал второе место в мире, уступая (правда, довольно значительно) своему главному сопернику – США. Производство же на душу населения по-прежнему сильно отставало от всех развитых стран Запада.
Главным, самым важным, решающим преимуществом в соревновании двух мировых систем Сталин считал военную мощь государства и поэтому именно в эту область бросил все силы и средства страны. Военное равенство с объединенными силами государств Запада после ужасающих потерь в недавней войне достигалось за счет невиданной в мире эксплуатации работников и крайне низкого уровня жизни всего населения. Отставание в уровне жизни советских людей от западноевропейцев нарастало с каждым годом, и никакой трудовой энтузиазм не мог вывести их из откровенной нищеты.
Режим работы и жизни большинства населения по-прежнему оставался суровым, не слишком отличаясь от условий военного времени. Фактически сохранялось бессрочное прикрепление работников к предприятиям и колхозам. Анкеты с вопросами о социальном происхождении, партийности, пребывании в заключении, в ссылке, в плену, в окружении, на оккупированной территории, за границей и т. д., и т. д. делили все население на «категории доверия» – миллионы граждан должны были чувствовать собственную неполноценность перед государством и окружающими (чаще всего, неизвестно за какие грехи).
Никогда еще поговорка «На Руси от сумы да от тюрьмы не зарекайся» не звучала столь всерьез. Количество заключенных определялось не столько уровнем преступности, сколько потребностями государства в даровом, рабском труде заключенных – наличием для них фронта работ и посадочных мест в трудовых концлагерях. В 1951 году с каждого советского немца, чеченца, калмыка, балкарца, ингуша, карачаевца, грека, крымского татарина была взята расписка в том, что ему объявлен срок его ссылки – навечно [комиссия по реабилитации жертв политических репрессий при Президенте Российской Федерации оценила общее количество убитых в советские времена по политическим мотивам и умерших в тюрьмах и лагерях в 20 миллионов человек].
Страна продолжала жить впроголодь – силы деревни были истощены, каждый урожай давался с огромным трудом. Никакие понукания чиновников, никакие наказания уже не могли сделать почти бесплатную работу на колхозных полях более продуктивной. Подневольный труд на земле исчерпал все свои возможности – дальше был тупик. Оставались еще приусадебные крестьянские участки, и их постоянно обирала миллионная армия сборщиков натурального налога, но в итоге получалось, что кормила она этим лишь саму себя. Последнее (1953 года) предложение Сталина по сельскому хозяйству – еще более взвинтить сумму натурального налога – заставило схватиться за голову даже самых исполнительных его приближенных.
Застопорилась и внешняя экспансия – она была остановлена решительным отказом западных держав «умиротворять» Сталина, идя ему на уступки. Компартии в развитых странах оказались в политической изоляции. Война в Корее приобрела затяжной, позиционный характер без надежды на конечный успех. Страны «соцлагеря», проводившие у себя коллективизации и индустриализации по советскому образцу, требовали все большей и большей помощи «Старшего Брата».
Читать дальше:
ДОКТРИНА — разработанный, просчитанный в главных деталях и кратко сформулированный принцип государственной политики, определяющий её направленность на обозримое будущее.
Часто доктрины получают имена тех политиков, которые их предложили и проводили в жизнь: доктрина Монро (по имени президента США прошлого века, провозгласившего принцип «Америка — для американцев» и препятствовавшего любому вмешательству европейских держав в дела Нового Света), доктрина Брежнева (в той стране, куда однажды ступила нога советского солдата, её будущее будут определять коммунисты, и мы ни с кем не собираемся этот вопрос обсуждать, даже с населением этой страны).
Бывают и военные доктрины — это общий стратегический план ведения боевых действий в случае начала войны.
«ЗАПАД НЕ ВРАГ, ЗАПАД НЕ ДРУГ…»
Алексей Поликовский, журналист, 2014 год:
 «Запад не враг. Запад не друг. Запад — это не география, это склад жизни и система отношений, которые нужно изучать, чтобы понять, как нам влиться в этот могучий, занимающий века и континенты процесс.
«Запад не враг. Запад не друг. Запад — это не география, это склад жизни и система отношений, которые нужно изучать, чтобы понять, как нам влиться в этот могучий, занимающий века и континенты процесс.
Джозеф Брама, англичанин, всю жизнь изобретавший станки, замки и гидравлические прессы, в 1778 году придумал ватерклозет с поплавковым клапаном. Век был неспешный, поразмышляв еще пять лет, Брама придумал винтовой водопроводный кран. Через несколько десятилетий после Брамы седобородый лорд Кельвин усовершенствовал кран, создав смеситель, который позволяет человеку не мучить себя попеременно ледяной водой и кипятком, а сделать воду приятной температуры. И кто скажет теперь, что это изобретение, позволяющее миллионам людей от Токио до Лиссабона и от Аляски до Австралии ежедневно наслаждаться мягким теплым душем, — дало человечеству меньше, чем сооружение пафосных пирамид или героические полеты в космос?
Первый лифт на паровом двигателе начал поднимать людей в Америке в 1850 году. Это была примитивная платформа, ездившая по шпалам, но здесь важны мотив и идея. Механик, чье имя исчезло из истории, был одержим мыслью о том, что человек не должен мучиться, преодолевая сотни ступенек. А если у него больные ноги? В 1861 году еще один янки, Элиша Грейс Отис, запатентовал электрический лифт и «ловители» — приспособления, не дающие лифту упасть в шахту при обрыве каната. Без лифтов были бы невозможны не только небоскребы, но и все иные современные дома, без упорного труда Элиши Отиса и его хитроумной головы смертность в падающих лифтах превышала бы смертность при авиа- и автокатастрофах.
Московское метро прекрасно. Но чем бы оно было без эскалаторов, которые изобрел американец Чарльз Сиберг? За 35 лет до открытия станции метро «Сокольники» в Москве он запустил первую движущуюся ступенчатую лестницу на Парижской выставке 1900 года.
Лифты, эскалаторы, водопроводные краны, смесители, душевые кабины, миксеры, кофеварки, тостеры, смартфоны, флешки, диски, компьютеры, роутеры, микроволновки, хлебопечки, телефоны — во всемирном гипермаркете всевозможной техники, созданной для того, чтобы сделать жизнь людей удобной, быстрой, эффективной и приятной, — нет ни одного аппарата, созданного в России. Все эти вещи пришли с Запада. Даже зубная щетка пришла к нам оттуда. Вот уже 200 лет вал удобных приспособлений, помогающих жить приборов, сложных конструкций, встроенных в простые вещи, аппаратов для дыхания, питания, передвижения, общения идет с Запада по всем пространствам земного шара. Навигаторы сильнее меняют жизнь людей, чем 3 тысячи лекций по географии. Без холодильников и газовых плит цивилизация невозможна.
Первый бытовой серийный холодильник был выпущен в 1927 году в Америке компанией General Motors. Модель называлась Monitor-Top, работающие холодильники этой марки до сих пор иногда продаются на eBay. «Газпром», конечно, национальное достояние, он оперирует месторождениями и миллиардами, трубами большого диаметра для континентов и хранилищами для народов, но первую газовую плиту для отдельного, конкретного, частного человека соорудил в США в 1825 году не известный мне по имени механик с разводным ключом в руке и набором гаек в кармане. Джеймс Шарп в Англии в 1834 году уже продавал газовые плиты. Первую он поставил у себя в доме для собственной жены. О Джеймсе Шарпе в истории осталось немногое, но точно известно, что он страдал, зная, что жена замучилась разжигать огонь в печи и отмывать свои маленькие пальчики от угля. Кто был премьер-министром в том году в Англии, мы не помним, Британская империя развалилась и сгинула, а газовые плиты памятником Джеймсу Шарпу и его любви стоят в домах по всему миру и дают людям удобство жизни, теплую еду, горячий чай.
Весь современный мир создан изобретателями — без них мы до сих пор бегали бы пешком на 10-й этаж, крутили ручки мясорубок до остервенения, ходили на работу с лопатами в руках и кремнем в кармане. Эта участь нас миновала, потому что Запад — иными словами, удивительное сочетание теории и практики, философии и теологии, идеалов и денег, демократии и технократии — смог создать наш мир с саморазмораживающимися холодильниками, интеллектуальными стиральными машинами и соединенными в сети компьютерами. Жизнь всего городского населения Земли, в том числе и тех, кто ненавидит Запад, создана Западом в его мощном творческом движении к эффективности и комфорту.
Тут не важно, кто первый сделал то или иное открытие, тут не об этом речь. Изобретателей в России было не меньше, чем на Западе, изобретатели у нас были даже в ГУЛАГе. Тут важно, кто сумел увидеть в наборе схем или в математическом расчете новую реальность жизни, бизнес-план, потребность, благо для множества людей. Метод ядерно-магнитной резонансной томографии запатентовал в 1960 году советский ученый В.А. Иванов, но томограф как медицинский аппарат для общего пользования, помогающий лечить и спасать людей, создал англичанин Годфри Хаунсфилд из компании EMI в 1972 году. В России уже давно не социализм, а капитализм, но в смысле бесчеловечности системы и пренебрежения человеком это одно и то же: современные томографы у нас не производятся до сих пор.
Мир современного компьютерного общения создан Западом. Он создан Западом от первой DOS до последней Windows, от мейнфреймов размером с комнату до смартфонов, умещающихся в кармане. Правда, еще в 1961 году советский инженер Леонид Купринович создал мобильный телефон и даже запатентовал его, но для развития цивилизации это опять не имело никакого значения. Важно не только изобретение, важна среда, в которой оно не исчезает, важен мир, который вознаграждает изобретателя, а не превращает его в городского сумасшедшего, бродящего по кабинетам в поисках денег. Телефон Куприновича так и остался игрушкой номенклатуры и Лубянки: СССР не принимал технический прогресс, новый телефон не достался людям, не изменил их жизнь. Тогда как на Западе весь смысл развития мобильной связи — от первых телефонов Motorola до последних изысков Sony и HTC — был именно в том, чтобы дать ее всем без ограничения, повсеместно. То же самое с копирами, которые КГБ держал на учете и под замком, сканерами, компьютерами. Домашние компьютеры IBM и Apple были созданы не для партноменклатуры и охранки, а для всех желающих. Неразрывная связь идеи и ее реализации, технологий и демократии — это Запад.
В раю человек не знал тяжелого, иссушающего мозг и душу труда. Запад на свой, практичный, деловой лад упорно подбирается к утерянному раю. Освобождение человека от ежедневного, часто мучительного домашнего труда осуществил не конфуцианский Китай, не Индия с ее пантеоном из 40 тысяч богов и Будды, не духовная Россия — освобождение осуществил прагматичный, тысячу раз обвиненный в бездуховности Запад. Великая русская литература облилась слезами над маленьким человеком; Запад практично и деловито помог ему. Этот бездуховный Запад сделал всё для того, чтобы у маленького человека сошли мозоли с рук и появилось время для мысли, чувства и досуга.
Американке Джозефине Кокрейн в 1886 году надоело мыть посуду, она сконструировала посудомоечную машину. Автоматическая стиральная машина, освободившая женщин от стирки в тазу, была запущена в серию американскими компаниями General Electric и Bendix Corporation в 1947 году. О том, кто сконструировал первый кухонный комбайн, существуют разные мнения, но в любом случае это был человек Запада: то ли француз Пьер Вердене в 60-е годы прошлого века, то ли американец Карл Сонтхаймер в 70-е.
Запад есть гигантская фабрика, неустанно работающая со времен первой промышленной революции. Эта удивительная фабрика сама перестраивает себя в процессе работы, меняясь от эпохи к эпохе, расширяясь, размещаясь уже и там, где по географии вовсе и не Запад. Она то вселяется в Калифорнию, то осваивает Шанхай, но это все та же фабрика, упорно и неустанно производящая тысячи и тысячи самых разнообразных механизмов и аппаратов, которые гуманно освобождают человека от неподъемного труда, сберегают время его жизни, смягчают для него бремя обязанностей и делают его жизнь легче, ярче, интенсивнее. Мы цивилизация горячей воды, лифта, электрического света, посудомоечной машины и компьютера благодаря Западу. Зворыкин, Ипатьев, Сикорский, Щербатской, Брин, родившись в России, реализовали себя и свои изобретения на Западе. А почему не в России? Потому, что Россия не Запад!
Запад не враг. Запад не друг. Запад — это не география, это явление. Запад — это склад жизни и система отношений, которые нужно изучать, чтобы понять, как нам влиться в этот могучий, занимающий века и континенты процесс. Только что английская компания OwnFon начала продажи мобильного телефона для невидящих. Это телефон без дисплея, со шрифтом Брайля на кнопках. Его корпус печатается на 3d-принтере. Можно сколько угодно говорить о присущей нам духовности, но телефон для слепых создан на Западе. Можно сколько угодно бахвалиться нашим особым путем, но лучшие протезы для инвалидов созданы на Западе. Всё, необходимое для жизни, создается на Западе. Весь современный мир создан Западом. Япония уже стала Западом. Южная Корея стала Западом. Тайвань стал Западом. Большая часть Восточной Европы стала Западом. В Украине произошла революция, потому что Украина хочет быть Западом. Запад — это не страна или группа стран, Запад — это направление истории».
СВОБОДА
Мигель Сервантес «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»:
 «Свобода, Санчо, есть одна из самых драгоценных щедрот, которые небо изливает на людей, с нею не могут сравниться никакие сокровища: ни те, что таятся в недрах земли, ни те, что сокрыты на дне морском. Ради свободы, так же точно как и ради чести, можно и должно рисковать жизнью, и, напротив того, неволя есть величайшее из всех несчастий, какие только могут случиться с человеком. Говорю же я это, Санчо, вот к чему: ты видел, как за нами ухаживали и каким окружали довольством в том замке, который мы только что покинули, и, однако ж, несмотря на все эти роскошные яства и прохладительные напитки, мне лично казалось, будто я терплю муки голода, ибо я не вкушал их с тем же чувством свободы, как если б все это было мое, между тем обязательства, налагаемые благодеяниями и милостями, представляют собой путы, стесняющие свободу человеческого духа»
«Свобода, Санчо, есть одна из самых драгоценных щедрот, которые небо изливает на людей, с нею не могут сравниться никакие сокровища: ни те, что таятся в недрах земли, ни те, что сокрыты на дне морском. Ради свободы, так же точно как и ради чести, можно и должно рисковать жизнью, и, напротив того, неволя есть величайшее из всех несчастий, какие только могут случиться с человеком. Говорю же я это, Санчо, вот к чему: ты видел, как за нами ухаживали и каким окружали довольством в том замке, который мы только что покинули, и, однако ж, несмотря на все эти роскошные яства и прохладительные напитки, мне лично казалось, будто я терплю муки голода, ибо я не вкушал их с тем же чувством свободы, как если б все это было мое, между тем обязательства, налагаемые благодеяниями и милостями, представляют собой путы, стесняющие свободу человеческого духа»
Борис Акунин, писатель
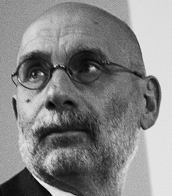 Свобода — это возможность каждому человеку прожить свою собственную жизнь, а не ту жизнь, которую ему навязывает государство или кто-то там еще.
Свобода — это возможность каждому человеку прожить свою собственную жизнь, а не ту жизнь, которую ему навязывает государство или кто-то там еще.
Каждый из людей, рождающихся на свет, представляет собой некий букет потенциальных возможностей. И если тебе атмосфера несвободы не дает этой возможности раскрыть, ты свою жизнь проживаешь зря. Ты превращаешься просто в биологическую машину, которая перерабатывает пищу, производит потомство и умирает. В такой жизни нету смысла. Для того, чтобы человек, появившийся на свет, раскрыл себя, надо предоставлять все возможности проявлять себя, нужно его учить, нужно создавать педагогическую систему. В условиях гнета и подавления это невозможно.
Хосе Ортега-и-Гассет, испанский философ:
«Свобода всегда означала для европейца возможность стать тем, кто ты есть на самом деле. Понятно, что она отвращает тех, кто лишен и своего дела, и самого себя»
Олдос Хаксли, английский писатель, 1952 год:
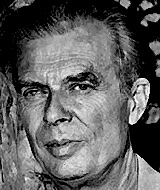 «…Свободе угрожают многочисленные сдвиги демографического, социального, политического и психологического характера, которые можно наблюдать уже сегодня… Свобода в опасности! Поэтому обучение свободе есть самая насущная необходимость. …
«…Свободе угрожают многочисленные сдвиги демографического, социального, политического и психологического характера, которые можно наблюдать уже сегодня… Свобода в опасности! Поэтому обучение свободе есть самая насущная необходимость. …
Самые лучшие конституции и самые своевременные законы могут оказаться бессильными перед фактом стремительно возрастающего народонаселения, все более усложняющейся бюрократии и сверхсовременной техники. Если перенаселение и сверхорганизация не будут поставлены под контроль, то очень может быть, что демократические государства проделают путь, обратный тому, который сделал Англию демократической страной, сохранив в ней все внешние формы монархии. Прежние изысканные формы – выборы, парламенты, верховный суд – останутся, но суть их исчезнет, и мало-помалу общественный строй примет характер некоего внедренного мирным путем тоталитаризма нового типа. Демократия и свобода превратятся в слова-побрякушки для газетных передовиц и радиопередач, а тем временем правящая верхушка и специалисты по промыванию мозгов будут спокойно делать свое дело.
Но как поставить под контроль эти колоссальные, угрожающие нашей свободе силы?..
Недавние опросы общественного мнения в Соединенных Штатах (а эта страна – прототип того, к чему через какое-то время придут все остальные промышленные страны) показали, что многие молодые люди в возрасте до двадцати лет, то есть завтрашние избиратели, не верят в демократические институты, не возражают против цензуры идей, не считают, что народное правление действительно осуществимо, и будут вполне удовлетворены, если смогут продолжать существование, к которому привыкли, то есть жизнь, пронизанную всепроникающей рекламой и подвластную олигархии экспертов. …
Те, кто теперь так пренебрежительно отзывается о демократии, могут, повзрослев, стать борцами за свободу. А крик «Дайте мне сосисок и телевизор, и не приставайте ко мне с вашей свободой!» при изменившихся обстоятельствах может перейти в клич «Свобода или смерть!» …
СОЦИАЛИЗМ И СВОБОДА
Карл Ясперс, немецкий философ:
 «Социализмом называют в настоящее время все учения и планы, рассматривающие вопросы организации совместной работы и совместной жизни под углом зрения справедливости и устранения привилегий. Социализм – это универсальная тенденция современного общества, направленная на то, чтобы создать такую организацию труда и такое распределение продуктов труда, которые бы обеспечили свободу всех людей. В этом смысле сегодня едва ли не каждый человек социалист. Социалистические требования присутствуют в программах всех партий. Социализм – основная черта нашего времени»
«Социализмом называют в настоящее время все учения и планы, рассматривающие вопросы организации совместной работы и совместной жизни под углом зрения справедливости и устранения привилегий. Социализм – это универсальная тенденция современного общества, направленная на то, чтобы создать такую организацию труда и такое распределение продуктов труда, которые бы обеспечили свободу всех людей. В этом смысле сегодня едва ли не каждый человек социалист. Социалистические требования присутствуют в программах всех партий. Социализм – основная черта нашего времени»
Джордж Оруэл, английский писатель, 1947 год:
«Ничто, по моему мнению, так не способствовало извращению идеи социализма, как убеждение в том, что Россия – социалистическая страна…»
Джон Дос Пассос, американский писатель, 1947 год:
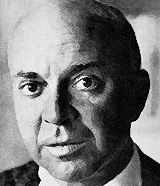 «Те из нас, кто верил в социализм в пору радикализма двадцатых годов, те и надеялись, что он будет стимулировать самоуправление, расширение индивидуальных свобод, содействовать более справедливому распределению накопленных в мире богатств. Ныне стало очевидно, что Советский Союз – отнюдь не то место, где это возможно осуществить. Даже американские коммунисты этого не оспаривают. Однако они толкуют о том, что нынешние лишения оправдываются перспективой установления царства справедливости и благоденствия, которое придет после победы коммунизма во всемирном масштабе»;
«Те из нас, кто верил в социализм в пору радикализма двадцатых годов, те и надеялись, что он будет стимулировать самоуправление, расширение индивидуальных свобод, содействовать более справедливому распределению накопленных в мире богатств. Ныне стало очевидно, что Советский Союз – отнюдь не то место, где это возможно осуществить. Даже американские коммунисты этого не оспаривают. Однако они толкуют о том, что нынешние лишения оправдываются перспективой установления царства справедливости и благоденствия, которое придет после победы коммунизма во всемирном масштабе»;
«Выбирая свой путь, мы должны быть готовы к эксперименту. В соответствии с практикой нашего правительства мы обязаны поддерживать определенный баланс интересов между требованиями различных групп населения. Мы еще не разрешили проблемы, связанные с защитой свободы каждого индивида от ее подавления со стороны других людей, мы делаем лишь первые шаги в этом направлении»
Отто Габсбург, эрцгецог, депутат Европарламента, 1993 год:
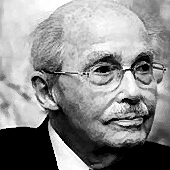 «В Западной Европе уже много лет существует опасное явление. Две трети населения не имеют опыта диктатуры и войн. Особенно молодые люди весьма не удовлетворены нашими демократическими процессами. Я тоже вижу, что они плохие, но, как и Черчилль, считаю, что из всех плохих политических систем демократия плоха меньше других. Мое поколение пережило две диктатуры и понимает, что демократия некую цену имеет, но те, кто на личном опыте не знаком с тоталитаризмом, могут клюнуть на посулы различных демагогов»
«В Западной Европе уже много лет существует опасное явление. Две трети населения не имеют опыта диктатуры и войн. Особенно молодые люди весьма не удовлетворены нашими демократическими процессами. Я тоже вижу, что они плохие, но, как и Черчилль, считаю, что из всех плохих политических систем демократия плоха меньше других. Мое поколение пережило две диктатуры и понимает, что демократия некую цену имеет, но те, кто на личном опыте не знаком с тоталитаризмом, могут клюнуть на посулы различных демагогов»
Альбер Камю, французский философ:
«…Бацилла чумы не умирает и не исчезает окончательно и может оставаться спящей в белье, мебели и бумагах десятилетиями.., может быть, придет день, когда на горе людям и в назидание им, чума разбудит своих крыс и пошлет их умирать в счастливый город»
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
Юджин Маккарти, американский общественный деятель, сенатор:
 «По мнению Токвиля, свобода объединения в организации являлась «самым естественным правом человека после права на самостоятельную деятельность. Поэтому право объединяться представляется мне почти столь же неотъемлемым, как и личная свобода», – писал он. И в Америке это право использовалось лучше, чем где бы то ни было в мире, притом для достижения самых разнообразных целей.
«По мнению Токвиля, свобода объединения в организации являлась «самым естественным правом человека после права на самостоятельную деятельность. Поэтому право объединяться представляется мне почти столь же неотъемлемым, как и личная свобода», – писал он. И в Америке это право использовалось лучше, чем где бы то ни было в мире, притом для достижения самых разнообразных целей.
«Если что-либо задерживает уличное движение, соседи непременно образуют совещательный орган, который и устраняют причину затруднений еще до того, как официальные власти примут соответствующие меры», – писал он.
За последние сто пятьдесят лет не произошло значительных изменений в этой склонности американцев к организации. …
Несметно число организаций в Америке, и оно продолжает расти. Сфера их деятельности охватывает весь спектр существующих в стране интересов и возникающих у нас конфликтов. Приведем названия некоторых из многочисленных организаций, указанных в «Энциклопедии ассоциаций» за 1977 год.
Торговые, деловые и коммерческие организации: «Фонд наименования товаров», «Американская ассоциация импортеров сыра», «Профессиональная ассоциация агентов – распространителей товаров по почте», «Американская вертолетная ассоциация», «Ассоциация изготовителей галстуков-бабочек», «Институт применения асфальта», клуб под названием «Кроты» (объединяющий строителей туннелей, метрополитена, канализационных сетей, фундаментов, морских, подводных и других крупных сооружений).
Сельскохозяйственные организации и товарные биржи: «Международная организация фермеров по использованию авиации», «Национальная ассоциация рождественских елок», «Американский институт льна», «Национальный совет по аллигаторам», «Защитники бобров», «Друзья морской выдры», «Фонд владельцев птицефабрик в прериях», «Американская ассоциация производителей красной смородины», «Североамериканский совет по чернике», «Национальный совет по земляным орехам», «Совет производителей свинины».
Юридические, правительственные, государственные и военные организации: «Национальная конференция судей по банкротствам», «Конференция контрольных советов похоронных служб Соединенных Штатов», «Американская академия адвокатов по вопросам брака», «Национальная конференция контролеров торговли спиртными напитками в штатах», «Ассоциация главных старшин военно-морского флота».
Научные, инженерные и технические организации: «Американская ассоциация инженеров хлебопекарной промышленности», «Национальное общество пищевых приправ», «Американский комитет по изучению метеоритов», «Ассоциация специалистов по производству прохладительных напитков».
Организации в области культуры: «Национальное общество крытых мостов», «Общество реставрации старых мельниц», «Американское общество по содержанию каналов», «Общество созидательного анахронизма» (так называет себя объединение специалистов по истории средних веков), «Американская гильдия любителей английских колокольчиков», «Ассоциация старых поселенцев и хлеборобов Среднего Запада» и др.
Братства: «Родные сыновья золотого Запада», «Почетный орден голубого гуся», «Международный орден взаимного поиска». …
Способности и стремление американцев к организации находят применение в добровольных пожарных командах, на что не мог не обратить внимание Токвиль. В наши дни в Америке существует 22 тыс. пожарных команд. Из них только 1800 состоят из персонала, получающего полную заработную плату, остальные же 20200 команд целиком или частично состоят из добровольцев. Хотя пожарные команды стали возникать еще во времена образования Соединенных Штатов, особенно большой рост их численности происходил после Второй мировой войны. В этот период они начали приобретать многие общественные и близкие к политическим функции вдобавок к своим прямым задачам по борьбе с пожарами и их предупреждением»;
«Деятельность правительственных органов обычно не пользуется доверием. Еще до того, как проводятся выборы, возникают организации, призванные оказывать влияние на правительство»
Элвин Тоффлер, американский обществовед:
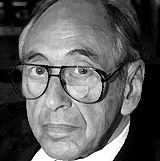 «В Австралии организация под названием «GROW» объединяет бывших пациентов психиатрических клиник и «нервных людей». В настоящее время «GROW» имеет отделения на Гавайских островах, в Новой Зеландии и Ирландии. … В Великобритании существует 60 отделений «Ассоциации страдающих депрессией». Повсюду образуются новые группы, начиная с «Общества анонимных алкоголиков» и «Ассоциации туберкулезников» и кончая «Родителями-одиночками» и обществом «Вдова–вдове». … Многие из них вскоре прекращают свое существование, но вместо каждой исчезнувшей группы появляются несколько новых»
«В Австралии организация под названием «GROW» объединяет бывших пациентов психиатрических клиник и «нервных людей». В настоящее время «GROW» имеет отделения на Гавайских островах, в Новой Зеландии и Ирландии. … В Великобритании существует 60 отделений «Ассоциации страдающих депрессией». Повсюду образуются новые группы, начиная с «Общества анонимных алкоголиков» и «Ассоциации туберкулезников» и кончая «Родителями-одиночками» и обществом «Вдова–вдове». … Многие из них вскоре прекращают свое существование, но вместо каждой исчезнувшей группы появляются несколько новых»
ЛИБЕРАЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ
«Нет ничего хуже демократии. Но ничего лучшего человечество не придумало»
Борис Хазанов, философ, 70-е годы:
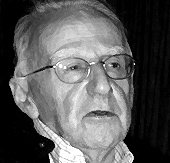 «Вы спрашиваете, что за диковинная штука демократия, спрашиваете… тех, кто никогда ее не нюхал, у кого о ней такое же представление, как об устрицах или ананасах в шампанском. Странным образом демократия, которая, если не ошибаюсь, имеет отношение к простому народу, демосу, кажется нам чем-то изысканно-чужеземным, роскошным и аристократическим. Не зря, должно быть, это слово не имеет эквивалента в русском языке. «Народоправство» больше похоже на самоуправство…
«Вы спрашиваете, что за диковинная штука демократия, спрашиваете… тех, кто никогда ее не нюхал, у кого о ней такое же представление, как об устрицах или ананасах в шампанском. Странным образом демократия, которая, если не ошибаюсь, имеет отношение к простому народу, демосу, кажется нам чем-то изысканно-чужеземным, роскошным и аристократическим. Не зря, должно быть, это слово не имеет эквивалента в русском языке. «Народоправство» больше похоже на самоуправство…
Демократия – это общество, которое ухитряется существовать без лагерей. Демократия – это такое общество, где смеются над авторитетами, где не чтят святынь, не кланяются портретам, не обожествляют алебастровых идолов, не поют хором, не шагают в ногу, не ликуют по расписанию, не сморкаются по приказу, общество, которое находит особое удовольствие в том, чтобы ставить под сомнение все свои институты, и всегда спрашивает себя, оправдывает ли оно свои вывески, общество, удивительная особенность которого состоит в том, что там не поощряют доносов, не превозносят посредственность, не преследуют оригинальность, не карают за талант, не рассматривают юмор как государственное преступление, – и при этом оно каким-то чудом продолжает жить.
Демократия – это маленькая Греция, которая выставляет триста воинов, и эти воины умудряются защитить ее от вражеских полчищ; демократия – это богатырь в одежде шута, которому пепел отца стучит в сердце, но никто об этом не знает; это дворец, в котором сидит король, нацепив на себя желтую шестиугольную звезду, и ничего с этим глупым королем не поделаешь; демократия – это то, до чего мы с вами не доросли и никогда не дорастем, потому что время роста давно миновало. Демократия это юность, а тирания – гнусная старость»
Марк Алданов, писатель:
«Мир демократизируется – и Россия демократизируется с ним: нам нельзя и некуда уйти от общего мирового закона. Наполеон говорил, что демократический строй – забавная игрушка для народов. Может быть, но народы дорожат этой игрушкой…»
Ральф Дарендорф, немецкий философ и социолог:
 «Гражданство – это не уравниловка, а предоставление равных возможностей… Право быть непохожим на других считается, и весьма обоснованно, одним из основных для членов общества, но условием его использования является отказ от методов борьбы, ставящих под угрозу сам принцип всеобщей гражданственности…
«Гражданство – это не уравниловка, а предоставление равных возможностей… Право быть непохожим на других считается, и весьма обоснованно, одним из основных для членов общества, но условием его использования является отказ от методов борьбы, ставящих под угрозу сам принцип всеобщей гражданственности…
У сепаратистов иные приоритеты, чем у борцов за гражданские свободы. Для них самое важное – сделать Ирландию католической или создать баскское государство [в Испании]. Сепаратисты, фундаменталисты и романтики стремятся достичь однородности, а либералам нужно многообразие, ибо только оно приведет к гражданскому обществу.
Этот выбор – единственный… «Мы можем вернуться к племени, но если мы хотим остаться людьми, мы должны двигаться вперед к гражданскому обществу» [Карл Поппер]»
Александр Воронель, публицист:
«Демократические общества вообще живут всего лишь, чтобы жить. Они развиваются вовсе не потому, что ставят себе такую цель. И жизненный уровень их граждан повышается не в ответ на требования справедливости»
Хосе Ортега-и-Гассет, испанский философ:
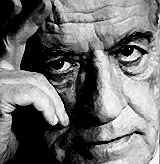 «Цивилизация – это прежде всего воля к сосуществованию. Дичают по мере того, как перестают считаться друг с другом. …
«Цивилизация – это прежде всего воля к сосуществованию. Дичают по мере того, как перестают считаться друг с другом. …
Высшая политическая воля к сосуществованию воплощена в либеральной демократии… Либерализм – правовая основа, согласно которой Власть, какой бы всесильной она ни была, ограничивает себя и стремится, даже в ущерб себе, сохранить в государственном монолите пуст`оты для выживания тех, кто думает и чувствует наперекор ей, то есть наперекор силе, наперекор большинству. Либерализм – и сегодня стоит об этом помнить – предел великодушия; это право, которое большинство уступает меньшинству, и это самый благородный клич, когда-либо прозвучавший на Земле. Он возвестил о решимости мириться с врагом, и – мало того – врагом слабейшим. Трудно было ждать, что род человеческий решится на такой шаг, настолько красивый, настолько парадоксальный, настолько тонкий, настолько акробатический, настолько неестественный. И потому нечего удивляться, что вскоре упомянутый род ощутил противоположную решимость. Дело оказалось слишком непростым…»
Элвин Тоффлер, американский обществовед:
 «В обществах Второй волны [т.е. находящихся на этапе индустриальной цивилизации] правление большинства почти всегда означало прорыв к справедливости для бедных. Ведь бедные были большинством.
«В обществах Второй волны [т.е. находящихся на этапе индустриальной цивилизации] правление большинства почти всегда означало прорыв к справедливости для бедных. Ведь бедные были большинством.
Однако сегодня в странах, сотрясаемых Третьей волной [т.е. при переходе к цивилизации постиндустриальной], часто все совсем наоборот. У настоящих бедных нет, как правило, численного преимущества. В большинстве стран они – как и все остальные – стали меньшинством»
ПОСЛЕ АУШВИЦА
[Аушвиц – немецкое произношение названия одного из самых жестоких гитлеровских концлагерей, которое у нас больше принято произносить в польской транскрипции – Освенцим. Этот лагерь начал действовать в начале 1942 года. В четырех его газовых камерах можно было одновременно отравить 12 тысяч человек. Трупы сжигались в расположенном в том же здании крематории, а когда «пропускной способности» печей не хватало – штабелями на огромных кострах в близлежащем лесу. Персонал лагеря составляли 2,5 тыс. эсэсовцев. В Освенциме было умерщвлено около 2 миллионов человек]
Теодор Адорно, немецкий философ и социолог, 1966 г, немецкий философ и социолог, 1966 год:
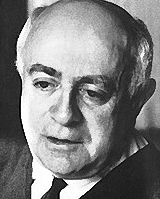 «Требование, чтобы Аушвиц никогда больше не повторился – первейшее в воспитании. Оно настолько важнее всех остальных, что я не думаю, что должен или обязан его обосновывать… Пытаться обосновать это требование означало бы нечто чудовищное, учитывая чудовищность того, что произошло в Аушвице… Любые дебаты об идеалах воспитания ничтожны и не имеют никакого значения перед этим одним: чтобы не повторился Аушвиц. …
«Требование, чтобы Аушвиц никогда больше не повторился – первейшее в воспитании. Оно настолько важнее всех остальных, что я не думаю, что должен или обязан его обосновывать… Пытаться обосновать это требование означало бы нечто чудовищное, учитывая чудовищность того, что произошло в Аушвице… Любые дебаты об идеалах воспитания ничтожны и не имеют никакого значения перед этим одним: чтобы не повторился Аушвиц. …
То, что произошло, само является выражением чрезвычайно мощной общественной тенденции. Корнем геноцида стало воскрешение воинственного национализма, которое происходило во многих странах с конца XIX века. …
Я не думаю, что очень помогла бы апелляция к вечным ценностям, по поводу которых именно те, кто склонен к подобным преступлениям, только пожимают плечами; не думаю также, что большую пользу принесла бы информация о том, какими позитивными качествами обладают преследуемые меньшинства. Корни следует искать в преследователях, не в жертвах.
Необходимо понять механизмы, которые делают людей такими, что они способны на подобные поступки, помогая им осмыслить происшедшее… Виновны не убитые. Виновны только те, кто бессмысленно вымещал на них свою ненависть и агрессивность. Этой бессознательности следует противостоять, отучая людей от того, чтобы они, не задумываясь о самих себе, обращали свою агрессивность вовне. …
Схема, подтверждавшаяся в истории всех преследований, такова, что ненависть направляется против слабых, прежде всего тех, кто воспринимается как слабый… и в то же время – справедливо или несправедливо – как счастливый. …
Именно готовность быть заодно с властью и подчиняться тому, что сильнее… – таков образ мыслей мучителей, который никогда больше не должен возникнуть… Единственной подлинной силой против принципа Аушвица могла бы быть внутренняя автономность.., необходимая для не-участия.
Самым важным в смысле опасности повторения я считаю необходимость противодействия господству любого коллектива; сопротивление коллективизму необходимо усилить, делая эту проблему гласной, раскрывая ее смысл. …
…Речь идет о некоем мнимом идеале, который всегда играет значительную роль в традиционном воспитании, а именно жесткости. Я вспоминаю, как этот чудовищный Богер [один из эсэсовцев, служивших в Освенциме и обвиненный за преступления против человечности] во время аушвицкого процесса вдруг устроил яростную вспышку гнева, кульминацией которой стал панегирик в честь воспитания дисциплины на основе жесткости. Он считал ее необходимой для создания того типа человека, который ему казался правильным. Образ воспитания жесткостью, в который многие верят, совершенно об этом не задумываясь, насквозь извращенный. Люди, которые слепо встраиваются в коллективы, сами превращают себя в нечто вроде материала, уничтожают в себе способность к самоопределению. Этому соответствует готовность обращаться с другими как с аморфной массой. …
Тот, кто еще сегодня говорит, что это было не так или не совсем так страшно, тот уже защищает происшедшее и несомненно снова был бы готов созерцать или соучаствовать, если это произойдет вновь»
Иосиф Бродский, поэт, из речи при вручении ему Нобелевской премии по литературе, 1987 год:
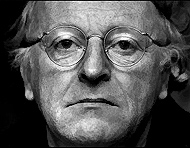 «Как можно сочинять музыку после Аушвица?» – вопрошает Адорно, и человек, знакомый с русской историей, может повторить этот же вопрос, заменив в нем название лагеря, – повторить его, пожалуй, с большим даже правом, ибо количество людей, сгинувших в сталинских лагерях, далеко превосходит количество сгинувших в немецких. … Поколение, к которому я принадлежу, во всяком случае, оказалось способным сочинить эту музыку.
«Как можно сочинять музыку после Аушвица?» – вопрошает Адорно, и человек, знакомый с русской историей, может повторить этот же вопрос, заменив в нем название лагеря, – повторить его, пожалуй, с большим даже правом, ибо количество людей, сгинувших в сталинских лагерях, далеко превосходит количество сгинувших в немецких. … Поколение, к которому я принадлежу, во всяком случае, оказалось способным сочинить эту музыку.
Это поколение – поколение, родившееся именно тогда, когда крематории Аушвица работали на полную мощность, когда Сталин пребывал в зените своей богоподобной, абсолютной… власти, явилось в мир, судя по всему, чтобы продолжить то, что теоретически должно было прерваться в этих крематориях и в безымянных общих могилах сталинского архипелага»
Общественная система, развившаяся в послевоенное время в странах западной цивилизации, получила название «либеральная демократия». Как она устроена?
Понятия «либерализм» и «демократия» нынче извращены и изгажены в России до полного непотребства — причем, и теми, кто считает себя их непримиримыми ненавистниками, и теми, кто считает себя их горячими поборниками. Поэтому разобраться с ними нужно основательно.
Мы уже начинали о них разговор. Теперь, прослеживая, как европейская цивилизация в послевоенное время заново строила на их основе самое себя, появился повод вернуться к их изначальному смыслу.
И опять начать надо с того, что «либерализм» и «демократия» — понятия разные, говорят они о совсем разных вещах и друг с другом непосредственно не связаны.
Либерализм утверждает, что нет ничего более важного на свете, чем человек, отдельная человеческая личность. У каждого человека есть некоторые права. Они никем не пожалованы, они не завоеваны в борьбе. Они просто есть — от рождения, по праву рождения, по самому факту появления человека на свет. Это права неотъемлемые, то есть, такие, которые никто не может отнять. Они даны для того, чтобы человек прожил весь отпущенный ему срок, причем так, как он считает нужным и правильным. Они так и называются — права человека.
Их в западном обществе накопилось уже немало, но все они по-прежнему сводятся к двум основным, базовым, корневым правам: человек имеет право на жизнь и на свободу.
Это значит, что для всех — и для другого человека, и для организации, и для государства — отдельная личность неприкосновенна. Никто не может человека лишить жизни, заставлять человека менять свои убеждения, верования и жизненные принципы.
Это значит, что любая ненасильственная деятельность — свободна. Никто не имеет права ее пресекать ни по каким соображениям — ни по соображениям общественной безопасности, ни заботясь о его же здоровье или даже жизни, если она, его деятельность, не наносит вреда другим людям.
Это — взгляды либерала в их максимальном, конечном выражении. Не надо думать, что они воплощены в жизнь даже в самых либеральных обществах. До этого еще далеко. Но цель их наиболее полного осуществления — поставлена.
При их реализации в различных жизненных обстоятельствах возникает великое множество сложностей, вопросов, проблем, нестыковок. Над их разрешением постоянно работают юридические и судебные системы различных стран. Возникающие коллизии медленно, но верно, «переваривает» массовое общественное сознание.
Но либерал не задается вопросом, какая экономическая или политическая система в принципе лучше всех осуществит соблюдение этих прав. Были времена, когда монархи или диктаторы стояли на страже прав человека в противовес большинству своих подданных — всякое бывало в истории. Сейчас в обществах западного типа окончательно укрепилось убеждение, что лучше всего, надежнее всего эти права обеспечивает демократическая политическая система. Но, повторяем, этот вопрос — не к либералу.
Этот вопрос — к демократу. Демократ убежден, что источником власти является народ — и все, кто осуществляет власть, должны быть избраны. Его идеалом является всеобщее избирательное право для всех граждан страны вне зависимости от их имущественного состояния, образования и пола.
Однако опыты введения такой избирательной системы выявили очень серьезную проблему: люди, вполне демократически избранные в органы власти, использовали полученные ими возможности для того, чтобы остаться в этой власти гораздо дольше установленного срока, а желательно — пожизненно, да еще и детям и внукам ее передать. Демократия постоянно «срывалась», «соскальзывала» в диктатуру.
Для того, чтобы исключить подобное развитие событий, система республиканской власти была модернизирована. Власть была разделена на независимые друг от друга, следящие друг за другом и ограничивающие друг друга ветви — законодательную, исполнительную и судебную, каждая из которых могла заблокировать решения остальных.
Выборы в каждую из ветвей были разнесены по времени, чтобы лучше учитывать изменяющееся настроение общества и чтобы в разных ветвях власти были разные политические силы.
Особое внимание начали уделяться меньшинству, оппозиции правящим партиям — она всегда была готова сменить их у «руля».
Принятие решений было обставлено бесчисленными процедурами, — система работала медленно, но зато ее решения оказывались всесторонне обсужденными и со всех сторон выверенными.
В особо защищенное положение была поставлена свободная пресса, следящая сразу за всеми ветвями власти. Совершенно свободно стали действовать бесчисленные общественные организации — форма самоорганизации населения — в целом составляющие «гражданское общество».
Соединение либерализма и демократии осуществилось в конституциях. В них были зафиксированы основные права человека — и любая власть потеряла возможность их нарушать (обращение в конституционный суд приводит к отмене решения исполнительной, законодательной и судебной власти, пусть даже и пользующееся всенародной поддержкой, но ограничивающее основные права отдельных граждан).
Жизнь в обществе, которое было организовано таким образом, воспитывала и саму власть, и население — поколение за поколением, — и, в конце концов, ее приняли практически все. Тем более, что в таком «инкубаторе», как выяснилось, любой бизнес, производство, наука, культура развивались в наиболее комфортных условиях, и не снившихся странам с авторитарными режимами власти.
Общество, живущее таким образом, получило название «либеральная демократия».
Общество, созданное в странах западной цивилизации в послевоенный период, часто называют «социализмом». Почему? Чем оно отличалось от «коммунизма» советского образца?
Индустриальное общество называют еще «капитализмом» [капитал — деньги, вложенные в производство, для получения прибыли]. На заре этого нового строя условия работы и жизни наемных работников были ужасны: неограниченное использование детского труда, фантастическая, на сегодняшний взгляд, продолжительность рабочего дня, отсутствие страхования от травм на производстве, пенсий по старости и инвалидности и т. д, и т. д. И это при том, что прибыли от предприятий оказывались в руках их собственников.
Уже тогда стали появляться проекты переустройства общества с целью поставить доходы промышленности на службу всего общества. Такие проекты стали называть «социалистическими» [социум — общество].
Социалисты разделились на два направления.
Одни считали, что можно постепенно изменять «капитализм», не трогая основ строя, но перераспределяя доходы бизнесов через государство — повышая налоги с владельцев капитала и используя их для обеспечения наемных работников, создавая для них страховые и пенсионные фонды, законодательно ограничивая длительность рабочего дня и детский труд и т. д, и т. д. Их конечной целью было постепенно, путем всеобщих выборов войти в парламенты, правительства и там добиться необходимых законов. Поэтому их главной предварительной целью стала всемерная демократизация государства.
Другие были убеждены в изначальной несправедливости «капитализма» и утверждали, что этот строй надо уничтожить полностью, до основания, а затем на его обломках выстроить новое, справедливое общество. Главным, по их мнению, было лишить собственности капиталистов и передать их бизнесы в собственность государства, после чего экономика страны заработает, как единый механизм с одним собственником. Государство будет максимально демократичным и будет использовать прибыли для блага всех граждан. Для совершения подобного переворота необходима и неизбежна насильственная революция. Приверженцы этой идеи, чтобы отличаться от «социалистов», приняли имя «коммунистов».
В 20 веке добились своих целей и «социалисты», и «коммунисты». И созданные ими общества лицом к лицу встретились в мире в послевоенное время. Чем закончилось их противостояние, мы увидим позже. Пока же надо признать что это были общества очень, очень разные.
Выяснилось, что «коммунисты» (имеются в виду честные, искренние поборники этой идеи) не учли в своих разработках нового строя очень многого. Например, того, что и кто будет заставлять людей работать много, когда им этого не хочется. Или того, что побудит людей разрабатывать новые технологии и заменять ими на производстве старые. И с чего они взяли, что государство-собственник всего общественного богатства обязательно будет демократическим, что сохранятся все свободы?
«Социалисты», приняв вместе со всеми либеральные ценности, развивали «капиталистическое» общество, которое под их влиянием (а часто и руководством) все больше поворачивалось к человеку.
Страны Запада в годы «холодной войны»
После II Мировой войны центр европейской цивилизации переместился за пределы Европы – США стали тем ядром, вокруг которого объединились все страны Запада. Перед лицом новой – советской – угрозы все «внутризападные» противоречия отошли на второй план; бывшие европейские великие державы смирились со своей зависимостью от США и приняли новые принципы и правила международных отношений.
От таможенных войн к свободе торговли. Одной из главных забот американской политики было не допустить возврата к довоенному характеру международных экономических отношений, когда индустриальные страны действовали по принципу «каждый сам за себя». В 1944 – 47 годах по инициативе США были созданы международные организации и заключены соглашения, призванные предотвратить возможность в будущем торговых и валютных войн, которые так подорвали единство всей западной цивилизации.
В 1944 году в американском городке Бреттон-Вудс 44 страны договорились о том, что после войны будет создана единая мировая стабильная валютная система (все национальные валюты «привязывались» к американскому доллару, а он, в свою очередь, свободно обменивался на золото). Смысл «бреттон-вудского» соглашения заключался в том, что правительства всех стран-участниц соглашения лишались возможности единолично манипулировать курсами своих валют ради получения односторонних выгод, – условия международной торговли становились гораздо более стабильными и предсказуемыми.
Для помощи тем, кто испытывает временные финансовые трудности, был создан Международный валютный фонд (МВФ); для ускорения экономического развития «отстающих» стран или регионов – Всемирный банк.
В 1947 году 23 государства Запада подписали Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) [позже ГАТТ была переименована в ВТО (Всемирная Торговая Организация)], обязавшись не допускать дискриминации в торговле друг с другом и стремиться к постепенному снижению и уничтожению всех барьеров, препятствующих свободной торговле (таможенных пошлин, квот и т. п.).
По плану Маршалла экономическая помощь предоставлялась не каждому государству в отдельности, а всем нуждающимся странам – чтобы получить ее, шестнадцати правительствам пришлось создать Организацию европейского экономического сотрудничества, вместе составить список своих нужд и общий план экономического восстановления. Эта организация положила начало устранению многочисленных препятствий и барьеров, разделявших экономики европейских государств.
Усилия США способствовали тому, что объемы торговли между странами Запада в послевоенные десятилетия стали расти рекордными темпами, что очень помогло быстрому восстановлению хозяйства и устойчивому экономическому росту. И хотя путь к всеобщей ликвидации таможенных барьеров оказался долгим и трудным, свобода торговли стала на Западе общепризнанным идеалом экономических взаимоотношений между государствами.
Идеология «свободного мира». Та часть человечества, которая когда-то называла себя «христианским миром», а в начале 20 века – «цивилизованным миром», теперь осознала себя как «свободный мир», противостоящий планетарной угрозе тоталитаризма. В традиционных либеральных ценностях, казавшимся в межвоенное двадцатилетие многим европейцам безнадежно «буржуазными», «фальшивыми», «отжившими свой век», вдруг открылась новая глубина и смысл.
Вновь вспомнили о христианских корнях западной свободы, о том, что именно христианство утверждает абсолютную ценность каждой человеческой личности и не позволяет обожествлять государство. О начавшейся «холодной войне» говорили как о «борьбе за превосходство между двумя противоборствующими идеологиями: свободой под защитой Господа и жестокой безбожной тиранией».
В Германии и Италии самыми популярными стали вновь созданные христианско-демократические партии, призывавшие вернуть в политику христианские ценности свободы и братства. Сильные христианско-демократические партии образовались и в некоторых других европейских странах. Христианские демократы противились возрождению националистических страстей и являлись самыми последовательными сторонниками объединения Европы.
Но до полного торжества либерализма в послевоенной Европе было еще далеко. Коммунизм, в отличие от поверженного фашизма, сохранил и после начала «холодной войны» немалую привлекательность для многих. В Италии и Франции за коммунистов в первое послевоенное десятилетие голосовало более 20% избирателей, несмотря на то, что обе компартии открыто подчинялись указаниям Москвы и оправдывали любые действия Сталина.
Дальновидные политики и в США, и в Западной Европе понимали, что одной военной мощи для отражения коммунистической угрозы недостаточно, и спастись от нее «свободный мир» сможет лишь в том случае, если сумеет стать не только более сильным, но и более справедливым, более сплоченным и процветающим, чем «социалистический лагерь». СССР, таким образом, стал для Запада не только внешней опасностью, но и постоянным «вызовом», с которым приходилось считаться во внутренней политике.
Права человека, как основа международного права. В Хартии ООН, принятой в 1945 году, впервые в истории были зафиксированы общие принципы, на основе которых предполагалось строить новую систему международного права. Главным из них стал принцип уважения к правам человека – все государства, вступавшие в ООН, обязаны были заявлять, что они признают безусловную ценность каждой личности и недопустимость нарушений ее основных прав, какими бы целями это ни оправдывалось. Таким образом, либеральные ценности, сформировавшиеся в недрах европейской цивилизации, впервые были объявлены общечеловеческими.
Однако в ту же Хартию ООН по настоянию ряда государств внесли положение о том, что соблюдение прав человека является внутренним делом каждой страны. Кроме того, сама Хартия (как и принятая спустя три года Всеобщая декларация прав человека) была не международным договором, обязательным для исполнения, а лишь «объявлением о намерениях», поэтому она не могла использоваться, как юридическое обоснование каких-либо санкций мирового сообщества против нарушителей заявленных принципов. И реально в ООН не было единодушия по этому вопросу – большинство государств на планете были весьма далеки от либеральной демократии и действительного уважения к «общечеловеческим ценностям».
Поэтому действительное сближение политических систем на основе общих ценностей началось не в планетарных, а в гораздо более узких масштабах. В 1949 году десять западноевропейских государств [Франция, Великобритания, Ирландия, Италия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Бельгия, Люксембург] создали Совет Европы, который в следующем году принял «Европейскую конвенцию о защите прав и основных свобод человека» – прототип общеевропейской конституции. Этот документ был уже не декларацией, а обязательным для исполнения международным договором. Таким образом, вошедшие в Совет Европы государства договорились между собой, что права отдельного человека выше, чем суверенитет нации, и их нарушение не может быть «внутренним делом» какого-либо правительства и поддерживающего его народа. Каждое государство согласилось привести все свои внутренние законы в соответствие с общеевропейскими; если же между ними сохранялось противоречие, то национальные суды были обязаны руководствоваться общеевропейской нормой.
Следить за исполнением Конвенции поручили специально созданным органам. Европейская комиссия по правам человека получила право собирать информацию о нарушениях прав в любом из государств, вошедших в Совет Европы, и проводить собственные расследования таких фактов. Окончательные решения и приговоры «провинившимся» государствам доверили выносить Европейскому суду по правам человека, обосновавшемуся во французском городе Страсбург.
Права человека стали пониматься шире, чем прежде, – в их число вошли также права на достойно оплачиваемый труд, на охрану здоровья, на приличное жилье, на отдых, на обеспеченную старость и т. п. Эти права были записаны в конституциях стран «социалистического лагеря». В западных же конституциях их не было – осуществить их было невозможно без активного вмешательства государства в экономику, без перераспределения общественного богатства в пользу малоимущих. Одними законами добиться всеобщей занятости и, тем более, достойного уровня жизни для всех было невозможно – но государства, вошедшие в Совет Европы, обязались проводить политику, направленную на достижение этих целей.
«Государство всеобщего благосостояния». Внутриполитическая жизнь Западной Европы во второй половине 20 века стала гораздо более стабильной благодаря тому, что между социалистами и «буржуазными» партиями впервые в истории был достигнут компромисс по основным вопросам. В послевоенные годы не только социалисты, но и твердые сторонники рыночной экономики и частного предпринимательства согласились, что больше терпеть несправедливости капиталистической системы нельзя. Страшные воспоминания о годах Великой депрессии еще не изгладились из памяти, и стремление не допустить ничего подобного в будущем объединяло все политические течения и экономические школы. Даже самые убежденные поборники личной свободы и ответственности уже не решались утверждать, что бедные сами виноваты в своей бедности, и справляться с ней должны тоже сами. Общепризнанным политическим идеалом стало «государство всеобщего благосостояния», в котором не будет безработных и бездомных, зарплата работающих и пенсия стариков будет достаточна для достойной и безбедной жизни, выходцы из всех слоев общества получат действительно равные стартовые возможности в образовании, а все нуждающиеся будут обеспечены доступной медицинской помощью.
Фактически в странах Западной Европы и США создавалась «смешанная экономика». В ней, при сохранении свободного рынка и частной собственности, весьма важная роль отводилась государству. Одной из популярнейших мер первых послевоенных лет в Европе была национализация крупных промышленных предприятий, а порой и целых отраслей. В государственную собственность переходили топливно-энергетический комплекс, связь, транспорт, многие предприятия тяжелой промышленности и т. п. Одновременно формировались государственные системы здравоохранения и образования, фонды социального страхования, за государственный счет строилось жилье для малоимущих, из госбюджетов выделялись деньги на создание новых рабочих мест. Составлялись даже долгосрочные планы и программы развития отдельных отраслей и экономики в целом (правда, это были не «планы-законы», как в СССР, а планы-рекомендации или планы-прогнозы).
С каждым годом государство брало на себя все больше экономических задач. Росла и доля общественного богатства, перераспределяемая через государственный бюджет, – к началу 70-х годов она уже превысила 40% [в начале века – не более 10%]. Европейские «левые» были убеждены, что таким путем страны Запада идут к настоящему социализму – но не к тоталитарному, как в СССР, а к демократическому, гуманному, не ущемляющему человеческой свободы. «Правые» не стремились к социализму, но тоже верили, что хорошие экономисты и математики вполне способны спланировать общенациональное экономическое развитие не хуже, чем это делают частные предприниматели, а государству вполне по силам искоренить бедность и добиться гармонии в обществе.
Двадцать лет процветания. В первое послевоенное двадцатилетие экономический рост во всех странах Запада был более быстрым, чем когда либо в истории, и результаты государственного регулирования выглядели блестяще. Государственное регулирование экономики оказалось весьма эффективным – за четверть века не произошло ни одного сколько-нибудь существенного экономического спада. Растущая экономика позволила добиться и главной из поставленных «государством всеобщего благосостояния» целей – практически полной занятости. Показатели безработицы в 50 – 60-е годах все время снижались, а во многих отраслях ощущалась даже нехватка рабочих рук, и многие страны Западной Европы распахнули двери для иностранных рабочих. Жизнь большинства населения за это двадцатилетие очень заметно изменилась – в Западной Европе, где рабочие семьи до войны еще могли страдать от недоедания и антисанитарных жилищных условий, теперь «стандарт жизни» приблизился к американскому, расходы на еду составляли уже меньшую часть семейного бюджета, а собственный автомобиль и просторное, качественное жилье стали массовой нормой.
Профсоюзы стали столь же влиятельными и могущественными, как и «большой бизнес». Теперь, нанимаясь на работу, рабочий уже не заключал отдельного трудового договора, а пользовался теми условиями коллективного договора, которых добился профсоюз (нередко при участии правительства). В таких коллективных договорах предусматривалось все – зарплата и ее обязательный ежегодный рост, оплата медицинских страховок, условия труда, дополнительные льготы (питание, спецодежда и т. п.), гарантии от увольнения и многое другое. С постоянной тревогой о завтрашнем дне, боязнью болезней и нищеты для большинства населения на Западе покончили. Бедность сохранилась, но о недоедании и недоступности самого необходимого речи уже не шло – даже безработные могли на пособие прокормить семью.
В условиях рынка государственные предприятия, управляемые квалифицированными специалистами, работали в основном вполне успешно, социальные программы расширялись без увеличения налогов – за счет экономического роста; все больше людей получали жалованье из государственного бюджета, все больше становилось получателей всякого рода социальных пособий, и человек, не испытывающий большого желания работать, уже вполне мог не утруждать себя этим.
Пределы индустриального роста. В шестидесятые годы западная индустриальная цивилизация достигла своего максимального расцвета. Впервые в истории человечества выросло целое поколение молодых людей, не знавших нищеты и лишений и считавших материальный достаток само собой разумеющейся нормой. И именно они первыми заметили, что в окружающем мире «что-то не так».
Индустриальный «бум» послевоенных десятилетий строился на дешевом топливе и сырье, которые в изобилии текли в развитые страны из почти не имевшего собственной промышленности «третьего мира». С каждым годом заводы США и Западной Европы поглощали все больше мировых запасов нефти, угля, металлов, каучука, хлопка, буквально «заваливая» потребителей в своих странах массой все новых и новых товаров; реклама старательно раздувала потребности, взывая к человеческой жадности и зависти; а между тем загрязнение природы промышленными отходами достигло катастрофического уровня. В реках и озерах исчезала рыба, от кислотных дождей гибли леса, города задыхались от ядовитого смога.
Раньше главный порок западного общества видели в несправедливом распределении доходов, теперь же многие стали считать порочной и гибельной саму промышленную цивилизацию с ее потребительским, хищническим отношением к природе. Во всех западных странах возникли, быстро умножились и громко забили тревогу группы защитников окружающей среды. Их призывы завоевали сочувствие общества и заставили правительства заняться разработкой экологического законодательства. Однако действительно массовый сдвиг к более экономичным и менее «грязным» технологиям наступил лишь тогда, когда эпоха дешевого топлива и сырья закончилась.
Кризис индустриального «общества потребления». К концу 60-х годов экономический рост стал замедляться, а вместе с ним замедлился и рост доходов госбюджетов – средств на социальные программы стало не хватать. Правительства начали «подхлестывать» экономику, дополнительно печатая деньги, которые уже не обеспечивались реальным ростом производства товаров. Поначалу это вызывало лишь небольшую инфляцию, но дозы денежного «допинга» с каждым годом росли, а в 1973 году резкий взлет цен на нефть привел к первому послевоенному мировому экономическому кризису.
Кризис был вызван действиями ближневосточных стран-экспортеров нефти. После того, как очередная война против Израиля закончилась поражением начавших ее Египта и Сирии, арабские государства решили оказать давление на США и Запад в целом, чтобы заставить их отказаться от поддержки Израиля. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) наложила эмбарго (запрет) на продажу нефти западным государствам. Поскольку до этого на протяжении почти тридцати лет нефть на мировых рынках была очень дешева, западные производства переориентировались на ее использование вместо традиционного угля. Когда же цены в одночасье подскочили в несколько раз, промышленность и транспорт на некоторое время буквально парализовало.
Возможности экономического роста, основанного на безудержном расширении материального производства и «пожирании» невосполнимых природных ресурсов, исчерпались, – ресурсы существенно подорожали и в недалеком будущем грозили просто закончиться. В то время массовые потребности основной части населения были удовлетворены, и спрос на стандартные, одинаковые товары расти перестал. Все это означало, что предприниматели уже не могли добиваться увеличения прибылей привычным, характерным для индустриальной эпохи способом – за счет увеличения масштабов производства.
Гигантские корпорации, сосредоточившие в своих руках большую часть промышленного (массового, «конвейерного») производства, теряли прибыли, сокращали рабочие места. При этом небольшие фирмы оказались гораздо приспособленнее для быстрого внедрения ресурсосберегающих технологий, для производства мелкосерийных товаров, уникальных услуг.
Нефтедобывающие страны надавили на Запад удивительно «вовремя» – они подкрепили моральные протесты новорожденного экологического движения серьезными материальными «аргументами». Цены на сырье подскочили как раз тогда, когда западная молодежь обвинила свою цивилизацию в безнравственном, бездумном расточительстве; когда новое поколение провозгласило, что в жизни есть более важные вещи, чем экономический рост, материальный успех и профессиональные достижения. К тому же именно в эти годы появились революционные разработки в микроэлектронике, космических технологиях, телекоммуникациях. Эти новейшие отрасли не требовали столько энергии и сырья, как металлургия или автомобилестроение, – они нуждались лишь в притоке денег, чтобы завоевать рынки в виде домашних компьютеров, спутникового телевидения, сотовых телефонов и т. п.
Правительства начали спасать «тонущие» компании, выделяя им средства из бюджетов. Но при общем спаде производства налогов в казну стало поступать меньше, так что приходилось снова и снова «подпечатывать» недостающие деньги. Эти дополнительные, «пустые» деньги в конце концов оказывались в руках у населения, и торговцы соответственно повышали цены на товары – раскручивалась инфляция, которой были недовольны все. Как только государство останавливало «печатный станок», оставшиеся без государственной помощи неэффективные предприятия начинали разоряться – соответственно, росла безработица. В этой ситуации государству приходилось регулировать цены (запрещать их повышать в приказном порядке) и доходы (повышать налоги с успешно работающих компаний), – но и то, и другое ослабляло стимулы к хорошей работе. Свободный конкурентный рынок оказался на краю гибели. А между тем в 1979 году цены на нефть взлетели еще раз…
В этот момент в Великобритании и США общественное мнение склонилось в пользу идеи, что государственное вмешательство в экономику пора обуздать, пока оно окончательно не задушило частную инициативу и предприимчивость. С 60-х годов либеральных политиков, восхвалявших свободный рынок, индивидуализм, призывавших к отделению государства от хозяйственной деятельности считали чуть ли не «экстремистами», – теперь же критика «государства всеобщего благосостояния» принесла им победу на выборах [последовательные либералы в 60 – 80 годах отстаивали старые принципы капитализма, приносившие успех вплоть до Великого кризиса, протестовали против отношения к государству, как к всеобщему «благодетелю», и предлагали снова превратить его в государство-«ночного сторожа», – поэтому их называли «неоконсерваторами»].
Возрождение либерализма. В конце 70 – начале 80-х годов «неоконсерваторы»-либералы пришли к власти в Великобритании, США, ФРГ, Франции и ряде других стран. Их политика везде заключалась примерно в одном и том же: национализированные предшественниками отрасли и предприятия они продавали частным компаниям (приватизация), решительно останавливали «печатные станки» центральных госбанков, резко снижали налоги и всячески поощряли и защищали свободу частного предпринимательства. Либералы не отказывались от поддержки слабых и малоимущих, но заявляли, что пособия должны получать лишь те, кто не может работать, – трудоспособным же государство может помогать только организацией бесплатного переучивания на новые, более нужные современному бизнесу профессии, или доступными кредитами на открытие собственного дела, но не «поощрять бездельников». Государственные расходы в целом не уменьшились, но правительства стали вкладывать их прежде всего в новые научные исследования, в образование, в кредитование малого и среднего бизнеса и т. п. Либеральные лидеры начала 80-х годов (Рональд Рейган в США, Маргарет Тэтчер – в Англии) отказались от попыток всеми силами спасать убыточные индустриальные гиганты и развязали руки успешным частным предпринимателям.
Протесты против «рейганомики» и «тэтчеризма» были очень громкими, – ведь «тонущие» корпорации увольняли множество работников, всем стало не хватать «подорожавших» денег, сократились государственные пособия, платными для населения стали многие услуги, за которые раньше платило государство… Но в то же время начался бурный рост новых производств, которые смогли выжить в этих жестких условиях. Росли те, кто сумел освоить новые технологии и существенно снизить затраты на вздорожавшее сырье и энергию, кто решился перейти на производство новой, «наукоемкой» продукции. Под усилившимся давлением рыночной конкуренции сумели перестроиться и выжить многие крупные корпорации. «Оживленный» либералами частный бизнес вытянул свои страны из хозяйственного застоя конца 70-х годов – и экономический рост возобновился.
Политика либералов-«неоконсерваторов» поддерживалась далеко не всеми, и сейчас еще существуют диаметрально противоположные мнения о том, оказала ли она действительно благотворное влияние на экономику, или либералам просто повезло получить власть как раз тогда, когда кризис подошел к концу «сам собой».
Начало новой цивилизации? Затяжной кризис 70-х годов стал для Запада «воротами в будущее». Индустриальная цивилизация, достигнув своего максимального развития, сдала свои позиции, уступая место новому типу общества, который называют «постиндустриальным», «постматериальным», «информационным» и т. п.
Кризис завершил эпоху экстенсивного, «затратного» экономического роста. Тяжелая промышленность перестала быть «локомотивом» всей экономики; доля сталелитейной, станкостроительной, энергетической и даже автомобильной промышленности в национальном богатстве стала быстро уменьшаться. Вместо нефти, электроэнергии и металлических руд главным «производственным ресурсом» стал человеческий интеллект, способный открывать и новые источники энергии, и экологически чистые технологии, и дешевые заменители дорогого природного сырья. Фундаментальная наука из «способа удовлетворения своего любопытства за государственный счет» превратилась в выгоднейшую сферу приложения капиталов; разрыв по времени между открытием и созданием на его основе новой технологии резко сократился.
Но в полной мере плоды всех этих сдвигов проявились лишь в последнем десятилетии 20 века.
Читать дальше:
Виктор Некрасов, писатель:
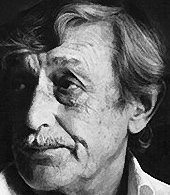 «9 мая мы все напились, без конца целовались, у кого сохранились пистолеты – стреляли в воздух… Мы победили! Фашизм – самое страшное на свете – разгромлен… Победителей не судят! Увы! Мы простили Сталину все! Коллективизацию, 37-й год, расправу с соратниками, первые дни поражения. И он, конечно же, понял теперь всю силу народа, поверившего в его гений, понял, что нельзя его больше обманывать, что только суровой правдой в глаза его можно объединить, что к потокам крови прошлого, не военного, а довоенного, возврата нет. И мы, интеллигентные мальчики, поверили в этот миф и с чистой душой и открытым сердцем вступили в партию Ленина–Сталина»
«9 мая мы все напились, без конца целовались, у кого сохранились пистолеты – стреляли в воздух… Мы победили! Фашизм – самое страшное на свете – разгромлен… Победителей не судят! Увы! Мы простили Сталину все! Коллективизацию, 37-й год, расправу с соратниками, первые дни поражения. И он, конечно же, понял теперь всю силу народа, поверившего в его гений, понял, что нельзя его больше обманывать, что только суровой правдой в глаза его можно объединить, что к потокам крови прошлого, не военного, а довоенного, возврата нет. И мы, интеллигентные мальчики, поверили в этот миф и с чистой душой и открытым сердцем вступили в партию Ленина–Сталина»
Алексей Толстой, писатель, из записной книжки 1943 года:
 «Что будет с Россией. Десять лет мы будем восстанавливать города и хозяйство. После мира будет нэп. Сущность этого нэпа будет в сохранении за государством всех средств производства и крупной торговли. Но будет открыта возможность личной инициативы, которая не станет в противоречие с основами нашего законодательства и строя, но будет дополнять и обогащать их. … Народ, вернувшись с войны, ничего не будет бояться. Он будет требователен и инициативен. Расцветут ремесла и всевозможные артели, борющиеся за сбыт своей продукции. Резко повысится качество. Наш рубль станет международной валютой… китайская стена довоенной России рухнет. Россия самим фактом своего роста и процветания станет привлекать все взоры»
«Что будет с Россией. Десять лет мы будем восстанавливать города и хозяйство. После мира будет нэп. Сущность этого нэпа будет в сохранении за государством всех средств производства и крупной торговли. Но будет открыта возможность личной инициативы, которая не станет в противоречие с основами нашего законодательства и строя, но будет дополнять и обогащать их. … Народ, вернувшись с войны, ничего не будет бояться. Он будет требователен и инициативен. Расцветут ремесла и всевозможные артели, борющиеся за сбыт своей продукции. Резко повысится качество. Наш рубль станет международной валютой… китайская стена довоенной России рухнет. Россия самим фактом своего роста и процветания станет привлекать все взоры»
ГОЛОДНЫЕ ГОДЫ
Отрывки из вскрытых в 1946 году органами госбезопасности писем граждан (Воронежской и Сталинградской областей):
 «…Надвигающийся голод страшит, моральное состояние подавленное. Дети наши живут зверской жизнью – вечно злы и голодны. От плохого питания Женя стал отекать, больше всего отекает лицо, очень слабый. Голод ребята переносят терпеливо, если нечего поесть, что бывает очень часто, молчат, не терзают мою душу…»;
«…Надвигающийся голод страшит, моральное состояние подавленное. Дети наши живут зверской жизнью – вечно злы и голодны. От плохого питания Женя стал отекать, больше всего отекает лицо, очень слабый. Голод ребята переносят терпеливо, если нечего поесть, что бывает очень часто, молчат, не терзают мою душу…»;
«…Мы совсем погибаем: есть нечего. Можно ли жить дальше? Так жить не хочется, живым бы лег в могилу. Как только наступает утро, Галочка просит есть. А что я ей дам?»;
«…Продукты все дороже и дороже. Когда придешь на базар, так становится жутко. К продуктам, особенно с нашими деньгами, не подойдешь… Очереди за хлебом стоят с вечера, но мы почти не ходим, потому что бесполезно. Голова ходит кругом от дум и от питания. Продавать нечего…»;
«…Тяжело жить и морально и материально, а тут еще надвинулся голод. Ведь в Воронежской области страшный недород. Муки, хлеба коммерческого получить нет возможности, очереди тысячные, люди едят жмых. Вот и живи как хочешь. Смерть хотя и близка, а страшно от голода умирать. Ну, да все равно, лишь бы поскорей. Я так устала, так тяжело жить»;
«…Бабушка у нас сильно болеет. Она и все мы опухли, уже три дня сидим голодные… Хоть бы поесть горячего, тогда можно умирать, а голодным умирать не хочется. Хлеба по карточкам стали давать меньше: дети получают по 150 грамм, а мама с бабушкой по 100 грамм»;
«Я ем сейчас желуди, хоть и запрещают их есть, так как от них погибло много людей, но больше есть нечего, так жить дальше я не могу»
Зинаида Козаева, из письма, 1991 год:
«В 1945–1956 годах я жила на руднике поселка Горняк (ныне город) Локтевского района Алтайского края. Помню, как в 1945 году со станции… пригнали пленных японцев. Их было много – шли в восемь рядов длиною примерно в 3 километра. Мы, дети, бегали к пленным поживиться куском хлеба: калмыки в то время тоже жили на правах военнопленных. Японцы работали на шахте, стройке и лесопилке. Работа тяжелая, голод, холод, они стали умирать, как говорится в народе, «пачками». Хоронили по 45–50 человек в одной яме, за зиму выросло целое кладбище. В живых почти никого не осталось. Зона японских пленных была недалеко от нашей землянки…»
Из книги «Сто сорок бесед с Молотовым. Из дневника Ф. Чуева»:
«После войны, кроме того, это уже инициатива Сталина, ввели так называемые пакеты. В закрытом пакете присылали деньги, очень большие деньги – военным и партийным руководителям. Нет, это было, конечно, не совсем правильно. Размеры были не только чрезмерны, а неправильны. Это я не только не отрицаю – не имею права и ничего возразить. … 18.08. 1976»
Надежда Мандельштам, писатель:
 «Наш опыт показал, что мужик …, если он не стал «аппаратчиком», отлично поймет интеллигента, которого выслали в его деревню. Мне случалось пить с ним чай и распивать четвертинку, а разговаривали мы шепотом, чтобы нас не подслушивали стукачи. Мне было легко и с бабами, у которых мужей угнали по той же дороге, что Мандельштама. Сейчас они рядом лежат в одной яме с одинаковыми бирками на ноге. Никто не отшатнулся от меня, оттого что я еврейка. Антисемитизм спускается сверху и созревает в том котле, который называется «аппаратом». Между мужиками и мной не было ни трещины, ни разрыва. Нас воссоединила общая судьба, если когда-нибудь разрыв был. И мы до смерти боялись начальства, опричников, аппаратчиков, хозяев, стукачей, подхалимов и разную челядь»
«Наш опыт показал, что мужик …, если он не стал «аппаратчиком», отлично поймет интеллигента, которого выслали в его деревню. Мне случалось пить с ним чай и распивать четвертинку, а разговаривали мы шепотом, чтобы нас не подслушивали стукачи. Мне было легко и с бабами, у которых мужей угнали по той же дороге, что Мандельштама. Сейчас они рядом лежат в одной яме с одинаковыми бирками на ноге. Никто не отшатнулся от меня, оттого что я еврейка. Антисемитизм спускается сверху и созревает в том котле, который называется «аппаратом». Между мужиками и мной не было ни трещины, ни разрыва. Нас воссоединила общая судьба, если когда-нибудь разрыв был. И мы до смерти боялись начальства, опричников, аппаратчиков, хозяев, стукачей, подхалимов и разную челядь»
Отрывки из вскрытых органами госбезопасности писем и высказываний москвичей по поводу снижения цен 1952 года:
 «Как здорово, что снизили цены! Теперь молоко стоит 2 руб. 20 коп. Дешевле, чем в Горлове, наверное. Нам с тобой станет легче. Москва прямо торжествует»;
«Как здорово, что снизили цены! Теперь молоко стоит 2 руб. 20 коп. Дешевле, чем в Горлове, наверное. Нам с тобой станет легче. Москва прямо торжествует»;
«Это все сплошная фикция. Во-первых, потому, что все равно в провинции нигде продуктов нет и не будет, а торговля хлебом ведется по спискам; во-вторых, никакого выигрыша население не получит, так как сэкономленную сумму с нас вытянут другим путем под любым предлогом»;
«Меня волнует такая проблема: ведь в государственном масштабе снижение цен дает миллиардную сумму экономии для населения и, следовательно, ту же сумму убытка для государства… Ни одно капиталистическое государство за всю свою историю таких вещей не делало»;
«В текущем году экономия от снижения розничных цен составляет, по тайным данным, около 28 миллиардов руб., подписка на заем в 1952 г. составит 42 миллиарда руб. В конечном счете получается не экономия для трудящихся, а потеря около 14 миллиардов руб.»;
«Пятый год мы живем в мире и с каждым годом все труднее… Госналоги все больше… Если в 1949 г. я уплатила 375 руб. и сдала 40 кг мяса, то в 1951 г. – 550 руб. и 44 кг мяса. А всего скота – коза и маленький поросенок. Денег не видим, т.к. на трудодни ничего не выдают. Живем лишь на своей картошке вдвоем с дочерью, а у кого семья большая, дети пухнут с голода» (из жалобы калужской колхозницы в Москву) [По результатам расследования органами госбезопасности доложено, что женщина, оказывается, никакого письма не писала и жалоб к налогообложению не имеет, а все, что в письме написано – вымысел]
Елена Зубкова, историк:
«Мысли о возможности нового военного конфликта в сознании людей были тесно связаны с пережитым во время прошедшей войны, которая выстроила своеобразную систему ценностей в советском обществе. Зденек Млынарж, один из лидеров «Пражской весны», в конце 40–начале 50-х годов учившийся в Московском университете, вспоминал впоследствии об одной характерной особенности мышления русских, связанной с испытаниями военного времени: «Основой всего было убеждение, что ценой огромных жертв, принесенных в годы войны, Советский Союз решил судьбу человечества, а потому все другие государства обязаны относиться к нему с особым уважением. Любую критику Советского Союза эти люди воспринимали как оскорбление памяти погибших. В этом они оказывались заодно с правительством, как бы критически они не относились к власти в других вопросах»
Героическое восприятие войны пришло несколько позднее. Сразу же после победы эйфория быстро сменилась осознанием величины утрат. Под влиянием пережитого опыта в общественном сознании стал постепенно формироваться образ «жизни-сказки», которая должна была наступить после войны. Желания людей становились все более непритязательными, а мечты военных лет о том, что после войны «всего будет много» и наступит счастливая жизнь, начали приземляться… Набор благ, составляющий для современников «предмет мечтаний», оскудел настолько, что стабильная зарплата, дающая возможность прокормить себя и семью, постоянное жилье (пусть даже комната в коммунальной квартире) уже считались подарком судьбы, настоящим счастьем. … Восприятие счастья как отсутствие несчастья формировало у людей, переживших бедствия военного времени, особое отношение к жизни и ее проблемам. Отсюда слова-заклинание – «только бы не было войны» – и «прощение» властям всех непопулярных решений, если они оправдывались стремлением избежать нового военного столкновения. …
«Угроза войны» всегда была сильным козырем в руках советской пропаганды, позволяющим манипулировать общественным мнением и в случае общественного недовольства всегда главную ответственность списать на «происки империализма»
«Мне думается, что татарские набеги и Тамерлан не привели к таким последствиям, как раскулачиванье. Убегая или спасаясь от набегов, люди держались вместе для обороны или освоения новых земель, а раскулачиванье вызвало настоящее рассеяние: каждый спасался в одиночку, в крайнем случае с женой и детьми. Родителей бросали где попало – старикам все равно умирать. Вокруг городов возникли землянки, где ютились сорванные с мест крестьянские сыновья. Постепенно они врастали в жизнь города, но обычно не сами беглецы, силы которых были исчерпаны, а их дети.
 Мне случалось бывать в землянках, когда меня в Ульяновске как преподавателя посылали переписывать избирателей к выборам. Меня поражала чистота и скученность, в которой жили в землянках. Родители еще не утратили традиционной крестьянской приветливости. Это обычно были люди за сорок лет. Стариков среди них я не видела ни разу, ни одного… Подростки и юноши, испытавшие в раннем детстве голод раскулачиванья, а потом войны, принадлежали к далеко не худшему разряду городских детей. В землянках жили бедственно, но о пьянках не слышали, чужим не доверяли, «компаний не водили», напрягая все силы, пытались спастись и вылезть из-под земли на поверхность.
Мне случалось бывать в землянках, когда меня в Ульяновске как преподавателя посылали переписывать избирателей к выборам. Меня поражала чистота и скученность, в которой жили в землянках. Родители еще не утратили традиционной крестьянской приветливости. Это обычно были люди за сорок лет. Стариков среди них я не видела ни разу, ни одного… Подростки и юноши, испытавшие в раннем детстве голод раскулачиванья, а потом войны, принадлежали к далеко не худшему разряду городских детей. В землянках жили бедственно, но о пьянках не слышали, чужим не доверяли, «компаний не водили», напрягая все силы, пытались спастись и вылезть из-под земли на поверхность.
Я пила у них жидкий чай или заварку с земляничным листом, мы осторожно прощупывали друг друга. Большинство выбралось из деревни во время войны, некоторые в тридцатых годах. Расспрашивать подробно не полагалось: и я, и они научились держаться начеку. Тем не менее мы молча сочувствовали друг другу, и это выражалось в том, что все мои избиратели приходили голосовать рано утром, чтобы не задерживать меня на участке. Агитатор отвечает за своих избирателей и торчит около урн, пока все не проголосуют. Уходя с участка, многие из моих избирателей спрашивали: «Скоро тебе домой? Кто там отстал?» – и, вернувшись, торопили отставших. И они, и я выполняли подневольную церемонию и старались облегчить ее друг другу, но сказать откровенно хоть слово не смели.
Никто на участке не понимал, почему у меня, сомнительной гражданки и, наверное, плохого агитатора, дело идет, как по маслу, так что к десяти утра я отправляюсь домой, а «звезды» пединститута – мы работали на «подшефном участке» – сидят до ночи и мечутся по городу в поисках загулявших избирателей. Ни разу ни один избиратель не спросил меня, куда и кого избирают … Мы действовали по простому правилу: раз требуют, надо сделать, иначе «они» не отстанут. Шли последние сталинские годы…»
Борис Слуцкий
ЧТО ПОЧЕМ
Деревенский мальчик, с детства знавший,
что почем, в особенности лихо,
прогнанный с парадного хоть взашей,
с черного пролезет тихо.
Что ему престиж? Ведь засуха
высушила насухо
полсемьи, а он доголодал,
дотянул до урожая,
а начальству возражая,
он давно б, конечно, дуба дал.
Деревенский мальчик, выпускник
сельской школы, труженик, отличник,
чувств не переносит напускных,
слов торжественных и фраз различных.
Что ему? Он самолично видел
тот рожон и знает: не попрешь.
Свиньи съели. Бог, конечно, выдал.
И до зернышка сгорела рожь.
Знает деревенское дитя,
сын и внук крестьянский, что в крестьянстве
ноне не прожить: погрязло в пьянстве,
в недостатках, рукава спустя.
Кончив факультет филологический,
тот, куда пришел почти босым,
вывод делает логический
мой герой, крестьянский внук и сын:
надо позабыть все то, что надо.
Надо помнить то, что повелят.
Надо, если надо,
и хвостом и словом повилять.
Те, кто к справедливости взывают,
в нем сочувствия не вызывают.
Тех, кто до сих пор права качает,
он не привечает.
Станет стукачом и палачом
для другого горемыки,
потому что лебеду и жмыхи
ел и точно знает, что почем.
50-е годы
Сергей Мельгунов, историк, публицист, 1945 год:
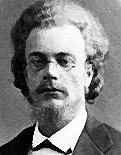 «Нас призывают «подчиниться истории» и признать существующий строй, который якобы обнаружил всю свою политическую и социальную пригодность в дни войны, то есть признать за сталинской властью право говорить от имени русского народа. Если бы Германия вышла из европейского военного конфликта победительницей, неужели это служило бы доказательством целесообразности и пригодности насильствующего немецкого фашизма?»
«Нас призывают «подчиниться истории» и признать существующий строй, который якобы обнаружил всю свою политическую и социальную пригодность в дни войны, то есть признать за сталинской властью право говорить от имени русского народа. Если бы Германия вышла из европейского военного конфликта победительницей, неужели это служило бы доказательством целесообразности и пригодности насильствующего немецкого фашизма?»
СОВЕТСКИЙ АТОМНЫЙ ПРОЕКТ
Из аналитического доклада Управления стратегических служб США «Политика СССР и атомная бомба», 1945 год:
«Следует исходить из того, что реализм русских заставит их признать насущную необходимость всемерного расширения исследований в области ядерной физики. Можно ожидать, что энергия ученых и естественные ресурсы страны будут направлены на решение главной проблемы. И это будет сделано в таких масштабах и пропорциях, которые едва ли возможны для демократической страны в мирное время»
Из постановления Государственного Комитета Обороны от 27 января 1945 года:
«Организовать в Болгарии поиски, разведку и добычу урановых руд на урановом месторождении Готен и в его районе, а также геологическое изучение других известных или могущих быть открытыми в Болгарии месторождений урановых руд и минералов»
Из вербовочной беседы советского резидента с ученым-атомщиком, участником создания американской атомной бомбы, 1943 год:
«Л.: Объясни мне, пожалуйста, Артур, как это ты решился на передачу другому государству секретных данных об атомной бомбе?
Ф.: Я убежден, что военные круги Америки пошли на явный обман ученых-ядерщиков, заставив их заниматься разработкой проекта атомной бомбы во имя спасения человечества от опасности нацизма, наводнившего всю Европу. На самом деле в Пентагоне считают, что в Советском Союзе не скоро овладеют атомной энергией. Не раньше, мол, чем через десятки лет, а Америка тем временем с помощью урановой бомбы уничтожит социализм.
Л.: Я согласен с тобой в том, что монопольное владение атомной бомбой станет великим искушением для таких генералов, как Гровс [административный руководитель «Манхэттенского проекта»]. Уверен, что твоя информация по Лос-Аламосу ускорит работу русских по созданию такой же бомбы. Поверь, твоя информация никогда не будет использована русскими таким образом, чтобы поставить тебя под удар. Еще они просили передать, что согласны при необходимости оказать тебе материальную поддержку.
Ф.: Ради бога, не надо об этом. Я готов сотрудничать с ними не за деньги, а за идею. Я хочу посвятить свою жизнь тому, чтобы отвести нависающую над человечеством угрозу ядерной катастрофы…»
[«Л.» — агент «Лесли» – американский коммунист Моррис Коэн, прошедший подготовку в советской разведшколе в Барселоне во время гражданской войны в Испании.
В отчете о вербовке именем Артур Филдинг («Ф.») назван немецкий ученый-атомщик Клаус Фукс, работавший в центре атомных исследований в Лос-Аламосе]
Игорь Курчатов, научный руководитель советского «атомного проекта», о материалах, переданных советской разведке Клаусом Фуксом:
«Получение данного материала имеет громадное, неоценимое значение для нашего государства и науки. Теперь мы имеем важные ориентиры для последующего научного исследования, они дают возможность нам миновать многие весьма трудоемкие фазы разработки урановой проблемы и узнать о новых научных и технических путях ее разрешения»
Из секретного аналитического документа Совета национальной безопасности США, 1950 год:
«Факт наличия у Кремля атомного оружия придает его замыслам новую силу и увеличивает опасность, с которой сталкивается наша система. …Вряд ли можно себе представить, что советские руководители воздержатся от применения атомного оружия, если будут не уверены в возможности достижения своих целей иными средствами»
Виталий Коробейников, генерал-лейтенант авиации:
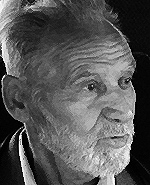 «Показательное общевойсковое учение под руководством маршала Советского Союза Г.К. Жукова, где в присутствии многих зарубежных наблюдателей было представлено ядерное оружие в порядке опытного воздушного взрыва в районе пос. Тоцкое Оренбургской области, способствовало отрезвлению агрессивных намерений американских стратегов по завоеванию мирового господства. События происходили летом 1954 года. …
«Показательное общевойсковое учение под руководством маршала Советского Союза Г.К. Жукова, где в присутствии многих зарубежных наблюдателей было представлено ядерное оружие в порядке опытного воздушного взрыва в районе пос. Тоцкое Оренбургской области, способствовало отрезвлению агрессивных намерений американских стратегов по завоеванию мирового господства. События происходили летом 1954 года. …
В точно назначенное время взрыва (14.09.1954 г., высота 300 м, 9.33) полк в полном составе поднялся в небо… В доли секунды возник огромный огненный шар (техники видели его на удалении до 60 км), образуя яркое свечение – ударную и тепловую волны. Огненный шар быстро расширялся и вскоре оказался окутанным языками желтого пламени, а затем и черным дымом. Начался выход этой массы на высоту с преобразованием в облако, под которым образовался широкий столб в виде ножки гриба, насыщенного пылью, предметами наземных разрушений, горящими деревьями, поднятыми отраженной от земли волной. В этих условиях надлежало определить степень облучения, уровень радиоактивного заражения самолета.
Полк, следуя эскадрильями, был введен в раскаленную, высокотурбулентную массу ядерного гриба для нанесения удара по наземным «уцелевшим» объектам, расположенным под эпицентром взрыва.
Выйдя из этой атаки на малой высоте и большой скорости, сложным маневром машины поднялись на вершину ядерного гриба и повторили удар. …
Дезактивацию самолетов проводили путем обмывания их горячей водой. Личный состав радиацию смывал в душе. Заболевания в полку отмечены прежде всего у лиц, проводивших дезактивацию самолетов, пострадали и летчики. К концу 1955 г. полк оказался небоеспособным, а в мае 1956 г. практически прекратил свое существование – был расформирован»
И. Громов, капитан 1-го ранга:
«О том, что на архипелаге Новая Земля создается полигон для проведения опытных ядерных взрывов, в те годы знал очень узкий круг лиц. …
А в начале 1956 г. мне неожиданно была предложена должность на Новоземельском полигоне. …
В мае 1957 г. началась конкретная подготовка к наземному и подводному взрывам в зоне «А», на боевом поле в губе Черная. …
Осенью 1957 г. состоялось четыре ядерных испытания: 7 сентября – приземный взрыв, через 17 дней – воздушный, затем 6 и 10 октября проведены воздушный и подводный взрывы. …
Потрясающей силы впечатление… произвело наблюдение подводного взрыва торпеды с атомным боевым зарядом.
Пуск торпеды произвела подводная лодка Северного флота С-144 (командир Г. Лазарев). Находилась она на перископной глубине в губе Черная. Произведя выстрел, развернулась на обратный курс и быстро пошла в море. Глубина торпеды была задана 35 метров.
Напряженно наблюдаем через амбразуры КП с побережья залива его свинцово-черную гладь, корабли, суда, баржи, расставленные по диспозиции на определенных расстояниях от рассчитанного эпицентра взрыва. И вот на этой глади быстро-быстро вырастает огромных размеров светлый водяной столб, а внутри него – шар, ярче солнца. Зрелище необычайно красивое, величественное. Размеры столба по высоте и поперечнику такие, что, если приводить какие-то сравнения, можно сказать так: вокруг большой хрустальной вазы расставлены спичечные коробки. Так выглядели подопытные корабли и суда вблизи водяного столба. Потом этот гигантский водяной столб-стакан стал оседать, разрушаться, пошла базисная волна, раздался очень сильный звук взрыва. …
Взрыв уничтожил две подводные лодки, два эсминца, два тральщика. Результаты испытаний были признаны успешными»
Николай Крылов, маршал, главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения, 1969 год:
 «Ныне империалистам США уже не удастся, как это было в период второй мировой войны, наживать миллиарды долларов на крови трудящихся масс. Мощное ракетно-ядерное оружие Советского Союза не позволит им укрыться за океаном и безнаказанно творить свои черные дела. …
«Ныне империалистам США уже не удастся, как это было в период второй мировой войны, наживать миллиарды долларов на крови трудящихся масс. Мощное ракетно-ядерное оружие Советского Союза не позволит им укрыться за океаном и безнаказанно творить свои черные дела. …
Империалистические идеологи стараются усыпить бдительность народов мира, прибегая к пропагандистским трюкам о том, что в будущей термоядерной войне не будет победителей. Эти лживые утверждения противоречат объективным законам истории. Будущее человечества за прогрессивной исторической формацией – социализмом. Победа в войне, если ее империалистам все-таки удастся развязать, будет на стороне мирового социализма и всего прогрессивного человечества»
Альберт Эйнштейн, 10 августа 1945 года:
«Мир не готов к тому, чтобы иметь дело с атомным оружием»
СМЕРТЬ СТАЛИНА
Александр Солженицын, писатель:
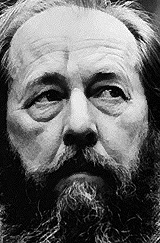 «Все потери, которые наш народ перенес за… 300 лет от Смуты XVII века, – не идут и в дальнее сравнение с потерями и падением за коммунистическое 70-летие.
«Все потери, которые наш народ перенес за… 300 лет от Смуты XVII века, – не идут и в дальнее сравнение с потерями и падением за коммунистическое 70-летие.
На первом месте здесь стоит физическое уничтожение людей. По косвенным подсчетам разных статистиков – от постоянной внутренней войны, которую вело советское правительство против своего народа, – население СССР потеряло не менее 45 – 50 миллионов человек. … Причем особенность этого уничтожения была та, что не просто косили подряд, кого придется, или по отдельным территориям, но всегда – выборочно: тех, кто выдавался либо протестом, сопротивлением, либо критическим мышлением, либо талантом, авторитетом среди окружающих. Через этот противоотбор из населения срезались самые ценные нравственно или умственно люди. От этого непоправимо падал общий средний уровень остающихся, народ в целом – принижался. К концу сталинской эпохи уже невозможно было признать в народе – тот, который был застигнут революцией: другие лица, другие нравы, другие обычаи и понятия»
Из сводки органов госбезопасности о высказываниях граждан по поводу болезни Сталина:
«Да, очень тяжело поверить, что нас постигло такое горе. Надежда на партию, которая железной рукой должна будет пресекать малейшую попытку внести разлад в своих рядах и народе. Особенно надо быть беспощадным к врагам»;
«Туда и дорога» (арестован);
«Как жаль, что он так тяжело заболел! Не приложили ли руку к его здоровью евреи?»;
«Ну и хорошо» (арестован);
«Как-то боязно. После его смерти кто будет на его месте? Кто знает, что люди думают? Встанет кто-нибудь на его пост, а потом окажется врагом народа»;
«Сталин долго не протянет, да это даже и лучше. Посмотрите, как все сразу изменится» (проводится оперативное расследование).
Леонид Мартынов
***
Примерзло яблоко
К поверхности лотка,
В киосках не осталось ни цветка,
Объявлено открытие катка,
У лыжной базы – снега по колено,
Несутся снеговые облака,
В печи трещит еловое полено…
Все это значит, что весна близка!
1952 год
Адам Михник, польский общественный деятель, 1993 год:
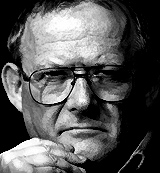 «Мне было тогда 6 лет. Я помню город, убранный в траур, рыдающие толпы, скорбную музыку из репродукторов…
«Мне было тогда 6 лет. Я помню город, убранный в траур, рыдающие толпы, скорбную музыку из репродукторов…
Кем в действительности был этот делатель революции,.. который бросил в тюрьмы, сослал и сгноил людей больше, чем все российские самодержцы?
Кем был этот семинарист, вознамерившийся свергнуть Бога, чтобы занять его место?
Кем был этот интернационалист, олицетворявший собой великорусский шовинизм и прибегавший к гнуснейшим средствам черной сотни?
Сталин был, без сомнения, политиком прагматичным и дееспособным. Единственный догмат, им исповедуемый был: СИЛА И ВЛАСТЬ. И в реализации этой своей веры он был последователен, циничен и жесток. Был виртуозным интриганом, но именно это и приводило в восторг политиков современного мира. Сегодня даже трудно себе представить, каким образом удалось этому мелкому карьеристу пройти путь от заурядного террориста до вселенского тирана, перед которым трепетали целые державы. Будучи, в сущности, таким же пигмеем, как и Гитлер, он оказался удачливее своего двойника и умудрился умереть в собственной постели. А до этого успел насладиться самым великим своим триумфом – Ялтинским переделом мира. В его империи никогда уже не заходило солнце…
Разгадывая сегодня фигуру Сталина, мы должны задуматься и о самих себе: что дает нам, ныне живущим, это знание? …
Воскрешая в памяти образ Сталина, трудно не поверить в существование дьявола. Но вера в дьявола может привести к спасительной мысли.., что Сталин не вина народа, но беда его!
В этом, разумеется, немалая доля правды: диктатура была навязана России силой. Но силой самих россиян. Утверждение, что большевистский переворот – дело евреев и латышей, поляков и грузин или какого иного международного заговора.., есть просто идиотизм, и притом опасный. Как и другое расхожее мнение, что за все несчастья Польши и Чехии, Венгрии, Румынии и Литвы ответственны некие «они», желательно иностранцы и иноверцы.
Нет! Это мы, каждый из нас, несем в себе часть ответственности. Вместо того, чтобы судорожно подыскивать виселицу для соседа, стоит заглянуть в глубь собственной души. Кто стремится сбросить с себя груз вины за то, что было нашим общим уделом, неизбежно приближает новую беду. …
В кризисной ситуации, когда разочарование людей достигает предела, а устойчивость демократических структур еще проблематична, из-за угла в любой момент может показаться лысеющий заговорщик и заявить: «Есть такая партия!» А за ним молчаливо проследует немногословный «аппаратчик революции». Уж не с усами ли? Не с оспинами ли на лице?..»
Георгий Дерлугьян, социолог:
«Сталинская индустриализация позволила догнать Запад по военным показателям, но вскоре после триумфа 1945 года выяснилось, что новое номенклатурное чиновничество не желало вечно жить в сталинском напряжении. Но еще важнее, что советское население, переделанное индустриализацией из крестьянства в образованных городских работников, желало, наконец, вкусить от материальной базы коммунизма, чей идеал на бытовом уровне неизбежно начинал напоминать не крестьянскую утопию, а образ жизни капиталистических средних классов.
С исчезновением неприхотливого крестьянства был исчерпан последний резерв деспотической модернизации»
Роберт Конквест, английский историк:
«Конечно, периоды реакции в СССР возможны и теперь. Но почему, на мой взгляд, невозможно реанимировать сталинизм? Во-первых, сталинская экономика оказалась неудачной. Во-вторых, сталины, к счастью, встречаются редко. Но что особенно важно – исчезла идея утопии. Сталин получил свою власть еще и за счет того, что говорил: мы идем к прекрасному будущему, вы приносите жертвы ради него. Но если теперь кто-то скажет: давайте приносить жертвы ради Утопии, ему ответят: нет, мы согласны на жертвы только ради того, чтобы поправить положение дел в экономике на следующий год… Исчезли фантазии, безумие утратило власть над людьми»
Гаррисон Солсбери, корреспондент американской газеты в Москве с 1949 по 1955 год:
 «Итак, Сталина положили в Мавзолее рядом с Лениным. Он был мертв, закончилась его эпоха. Что-то новое ждало впереди. На следующее утро, за несколько часов до рассвета я возвращался в «Метрополь», отправив последние материалы о похоронах Сталина и о наступлении новой эры. Шел мимо Колонного зала. Под призрачным светом сварочной дуги рабочие снимали огромный, высотой шестьдесят футов портрет Сталина. Когда портрет опускали, он выскользнул и упал на мостовую.
«Итак, Сталина положили в Мавзолее рядом с Лениным. Он был мертв, закончилась его эпоха. Что-то новое ждало впереди. На следующее утро, за несколько часов до рассвета я возвращался в «Метрополь», отправив последние материалы о похоронах Сталина и о наступлении новой эры. Шел мимо Колонного зала. Под призрачным светом сварочной дуги рабочие снимали огромный, высотой шестьдесят футов портрет Сталина. Когда портрет опускали, он выскользнул и упал на мостовую.
«Осторожней», – закричал один.
«Ничего, – ответил другой. – Он уже им больше не понадобится»
Шарль де Голль:
«Сталин не ушел в прошлое – он растворился в будущем!»
1889 – 1972
Один из крупнейших авиаконструкторов 20 века, родился в Киеве пятым ребенком в профессорской семье известного психолога и психиатра. Отец воспитывал его по собственной методе и сумел развить в сыне необыкновенную волю и упорство в достижении цели. Мать, читавшая ему фантастические романы Жюль Верна, дала сыну мечту: однажды Игорю приснился сон, который он помнил в мельчайших деталях всю жизнь – сон-полет на огромном воздушном корабле… Свою первую авиамодель он построил в двенадцать лет – то был крохотный летательный аппарат, который потом станут называть «вертолетом».
Чуть повзрослев, Игорь пробовал учиться в разных институтах, но систематическая учеба не шла – юношу распирали собственные идеи, желание подняться в воздух на собственном аппарате превратилась в настоящую страсть. Из сарая-мастерской он выкатил первую неуклюжую машину собственного изготовления, но та лишь подпрыгивала, едва отрываясь от земли. Зато вторая (1909 год), наконец, взлетела – Игорь Сикорский был в воздухе!
Его пятый самолет уже на равных соперничал на маневрах 1911 года с лучшими иностранными машинами, шестой – побил мировой рекорд скорости.
Недоучившегося двадцатитрехлетнего студента приглашают на Балтийский флот для создания военно-морской авиации, ему поручают быть главным конструктором и управляющим первого «настоящего» авиационного завода в Петербурге. Энергия и идеи Сикорского поднимали в воздух все новые российские самолеты самых разнообразных типов. Громкую славу принесли конструктору его тяжелые машины – первые четырехмоторные самолеты «Русский витязь» и «Илья Муромец». Началась война, и на фронт пошли новые самолеты Сикорского – истребители, бомбардировщики, штурмовики; под его руководством создавались новые заводы по производству двигателей, вооружений, оборудования – многопрофильная отечественная авиапромышленность.
С началом революции забастовки и митинги парализовали авиазаводы, началось шельмование инженеров. Убежденному монархисту Сикорскому после Февраля стало опасно появляться в цехах, а после Октября – вообще оставаться в Петрограде. В начале 1918 года по приглашению французского правительства он уезжает строить самолеты для союзников. Но когда война закончилась, разоренной Европе самолеты стали не нужны. Игорь Сикорский отплывает за океан – отныне его талант будет служить славе и мощи Соединенных Штатов Америки.
В Новом Свете у конструктора не было ни денег, ни авторитета, ни связей, – все надо было начинать сначала. Сикорский начал с того, что собрал и сплотил группу российских эмигрантов, из тех, кто раньше имел хоть какое-то отношение к авиации – они и стали костяком знаменитой в будущем корпорации «Сикорский Эйркрафт». Посильную финансовую помощь «русской» фирме оказывали многие соотечественники, оказавшиеся за океаном. В 1924 году эмигрантская «команда» Сикорского выкатила из бывшего курятника, переделанного в мастерскую, двухмоторный самолет S-29 – лучший в мире в своем классе. Успех принес первые деньги и открыл широкие возможности для дальнейшей работы. Следующим шедевром фирмы стала знаменитая «летающая лодка» S-39, завоевавшая американский рынок. Именно тяжелые гидропланы Сикорского стали основными самолетами корпорации «Пан-Америкэн» – на них впервые начались регулярные пассажирские перелеты через Атлантику (1937 год).
Однажды на первом испытании своего четырехмоторного лайнера конструктор вошел в салон и внезапно замер от неожиданности – это был тот самый детский сон, осуществившийся наяву во всех подробностях!
Заводы Игоря Сикорского в Стратфорде (штат Коннектикут) притягивали российских изгнанников со всех концов Соединенных Штатов. Бывшие «белые» офицеры и генералы получали здесь работу и жилье, и постепенно из рабочих, чертежников, сторожей превращались в руководителей производства, основателей новых фирм в самых разных областях. Со временем в городе образовалась большая «русская» колония, многим обитателям которой не было нужды даже осваивать английский язык (некоторые районы Страфорда носят русские названия: Чураевка, Дачи, Русский пляж…).
В конце 30-х годов Сикорский поставил перед своими соратниками новую задачу – создать рабочий, практически применимый аппарат с вертикальным взлетом и посадкой. Первый вертолет в сентябре 1939 года главный конструктор поднял в воздух сам. Технические решения той машины лежат в основе 90% мирового вертолетного парка до сих пор. Следующая модель вертолета Сикорского уже участвовала в боях американской армии в Европе против германского вермахта. А в Корейской войне его вертолеты вывезли с поля боя 10 тысяч раненых.
История спасательных вертолетов началась в ноябре 1945 года. В атлантическом шторме у берега, где стоял завод Сикорского, на глазах у всех гибло небольшое суденышко. И никто не мог помочь попавшим в беду морякам! А на заводском дворе стоял только что собранный экспериментальный образец вертолета с лебедкой. За штурвал сел племянник Сикорского и направил машину на выручку тонущим — в реальных условиях, да еще и во время шторма такого еще никто не делал! И моряков, одного за другим, спасли всех!
Свой последний шедевр старый конструктор создал в 1954 году. Его вертолеты S-58 строили в разных странах несколько десятилетий, эксплуатируются они по всему миру и по сей день.
«Рассказываю, как вместе с генералом армии И. Г. Павловским, недавним Главкомом сухопутных войск, был на Чукотке. Там до сих пор стоят казармы, где в 1946 г. располагалась 14-я десантная армия под командованием генерала Олешева. Армия имела стратегическую задачу: если американцы совершат на нас атомное нападение, она высаживается на Аляску, 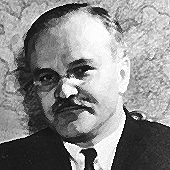 идет по побережью и развивает наступление на США. Сталин поставил задачу.
идет по побережью и развивает наступление на США. Сталин поставил задачу.
– Да, Аляску неплохо бы вернуть, – констатирует Молотов.
– А мысли такие были?
– Были, конечно, – соглашается Молотов. – Еще время, по-моему, не пришло таким задачам… США – самая удобная страна для социализма. Коммунизм там наступит быстрее, чем в других странах»