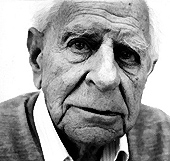Самая психологически трудная, самая объемная, самая богатая мыслями и чувствами тема курса. Давайте, как всегда, попробуем задать по-существу нашей темы (если вы еще не забыли, называется он «Россия в истории мировой цивилизации»)
«В годы первых пятилеток в СССР была построена современная промышленность. Означает ли это, что страна совершила прорыв к индустриальной цивилизации?»
Современная промышленность – это еще не цивилизация (как грамотность – еще не есть культура). Промышленная революция на Западе сопровождалась ростом индивидуальной свободы – область человеческого выбора резко расширилась. В СССР индустриализация сопровождалась урезанием даже простейшей, бытовой свободы: выбирать нельзя было ни место жительства, ни врача, ни учителя детям, ни даже рацион питания или набор одежды – не говоря уж о политическом выборе или свободе совести.
Традиционная крестьянская доиндустриальная культура действительно была во многом разрушена, но очень многое из нее сохранилось и легло в основу «социалистического» общества. Главная и наиболее очевидная из сохранившихся духовных традиций – это пренебрежение к личности, убежденность в том, что каждый должен всецело подчиняться коллективу, что «народ всегда прав»
(Это ни хорошо и ни плохо – просто это не есть индустриальная цивилизация.)
Вообще, надо сказать, индустриализация – одна из самых фальсифицированных тем новейшей российской истории. Это касается как фактической стороны дела, статистики, так и целенаправленно сформированного исторического образа, внедренного в массовое сознание (лишь в 90-е годы оказалось возможным посредством специальных методик реконструировать статистику процесса, хотя и в самом общем виде). Об истинной картине происходившего могут сказать только крохотные кусочки из воспоминаний участников тех событий, обмолвки в жизнеутверждающих фильмах или «производственных» романах тех лет и т. д. Появились и неприукрашенные рассказы о своей жизни «обыкновенных» людей того времени. Воссоздать достаточно полную и целостную картину того, что называлось «индустриализацией СССР» пока невозможно.
«Почему СССР удалось превратить в тоталитарное государство?»
Многие современные историки не любят термин «тоталитарное государство» – он, дескать, не отражает «всей сложности» общественных процессов, происходивших в СССР, слишком упрощает тогдашние противоречия, и вообще – «полностью тоталитарных» государств никогда и нигде не существовало.
На наш взгляд, все эти справедливо указываемые недостатки не перевешивают одного явного достоинства концепции тоталитаризма – она подразумевает взгляд на государство не с точки зрения самого государства, его целей и нужд, а с позиции отдельного человека, автономной личности. Рассматривая события 30-х годов с этой точки зрения, мы избежим самой возможности постановки диких вопросов о допустимости гибели миллионов ради достижения военной мощи державы, величия государства, народа и т. п.
В рамках поставленного вопроса позвольте высказать вам еще некоторые «раздражающие» соображения:
Ни одно общество не может существовать и быть устойчивым без социальной справедливости. Но справедливость бывает разная. Народ признает «справедливым» только такой строй, который отвечает каким-то его главным представлениям о «правильном» обществе, «правильной» власти. Поэтому по типу социальной справедливости можно судить о том, что для данного народа главное.
Сколько можно «судить» сталинизм? Это прошло и никогда уже не повторится. Гораздо полезнее судить по сталинизму – о народе (режим канул в историю, а народ остался, и так ли уж сильно он изменился с тех пор?).
Поэтому вопрос ставится так: что мы за люди, если с нами случилось вот это? Почему мы были довольны этим? Почему мы и сейчас способны почувствовать, как радостно было жить в сталинском СССР, ощущая на себе ежечасное внимание и заботу родного государства и самого земного бога?
Государству можно было писать жалобы на соседей, мужей и жен; у него можно было просить помощи; на него можно было переложить заботы о воспитании детей и о собственном здоровье; оно строго спрашивало, но зато и осыпало милостями, вознося самых способных и преданных из низов к самым высотам власти. Оно давало каждому то, что ему «положено», и вдобавок обеспечивало смысл жизни, чувство причастности к своему величию.
Не имея Бога на небесах, народ нуждался в земном божестве – воплощенной мудрости и справедливости, носителе и дарителе смысла жизни, карающем и милующем, ходящем своими неисповедимыми путями. И эта главная потребность (тут славянофилы были правы, – это для русского народа оказалось главной потребностью) Сталиным была удовлетворена.
Давайте подумаем вот еще над чем:
«Почему удалась сталинская коллективизация деревни?»
В этом вопросе поставлены далеко не все точки над «i». Шесть десятилетий господствовало утверждение, что крестьяне сами этого хотели. Потом, (когда стало «можно») потоком хлынули материалы о чудовищных насилиях над крестьянством в годы «великого перелома». И стало казаться, что коллективизация была результатом именно государственного принуждения, поддержанного в деревнях лишь немногочисленными «отморозками». Где же правда?
Задуматься над этой загадкой, приоткрыть краешек ответа на нее может помочь ЧЛД «Коллективизация».
Обратите внимание на одно из многочисленных воспоминаний об обстановке в коллективизируемой деревне (Е. Самушкиной). Здесь нет вооруженных «карателей» из города – активно действуют исключительно местные. Творят они, что хотят, а остальные деревенские – молчат. Почему?
И еще очень интересно было бы подумать над словами тогдашнего главного «безбожника» Ярославского:
«У нас имеются сейчас уже десятки безбожных сел… Есть уже безбожные города. Если мы пойдем таким темпом, то примерно 50 процентов крестьянского населения будет уже в колхозах в 1931 году»
Почему он так непосредственно связал успехи искоренения «религиозного дурмана» с конкретными цифрами и сроками коллективизации?
Нам очень хотелось бы, чтобы среди раздирающих душу описаний нечеловеческих страданий «раскулаченных» крестьянских семей была бы замечена все время повторяющаяся мысль авторов отчаянных посланий в «центр»:
«А если призадуматься серьезно, что будет от этого какая-нибудь польза? Если бы прошедши через эти трупы детей, мы могли продвинуться ближе к социализму или к мировой революции, то тогда другое дело, ясно, что без жертв к социализму мы не придем, но в данном случае ни к какой цели не придти»;
«Пусть кулаки страдают, которые эксплуатировали наш труд, а у меня ничего нет, я хожу в лаптях»;
Нас сюда выслали на гибель, а какие мы кулаки, если имели по одной лошадке, по одной корове и по 8 овец. Мы бедняки. Мы для государства были безвредны…»;
«Люди эти страдают невинно, они не кулаки…».
Тут есть над чем подумать…
Беспрецедентное насилие ничтожного меньшинства над огромным большинством не представляется такой уж загадкой, если увидеть сотрудничество жертв с палачами.
Механизм этого сотрудничества был уже прекрасно отлажен и обкатан в годы НЭПа – именно тогда, когда от фанатической, чудовищной и героической борьбы против крестьянской психологии («военный коммунизм») новая власть начала учиться использовать ее в своих целях. Тогда уже были восстановлены и усовершенствованы те же взаимоотношения между властью и «народом», которые были ему привычны и понятны со времен Мамая (и уже без всяких докук и помех со стороны «народолюбивой» интеллигенции).
В сущности, новая власть гораздо лучше понимала крестьян, чем любой из царей со времен Петра I, и поэтому могла действовать гораздо более свободно и безнаказанно, на «полную катушку» используя все воспетые славянофилами особенности своего народа.
Тут-то и выяснилось, что никакой «общинности», коллективизма без развитого личного начала нет и быть не может – ни один человек из орущей и возмущающейся толпы не поставит свою индивидуальную подпись под общим требованием, не станет сам, лично, отстаивать общие интересы, даже в присутствии всех остальных. До сих пор знакомая, родная, вековечная ситуация: любой начальник знает, как легче всего утихомирить даже очень агрессивную толпу – начать вызывать «крикунов» поодиночке… Без личности нет солидарности – способности действовать сообща.
Крестьянская община даже в те времена, когда ее превозносили народники, не могла и не желала исполнять тех функций элементарного «социального страхования», которые до отмены крепостного права худо-бедно осуществлялись помещиками (например, призрение сирот, помощь вдовам и увечным). «Природные социалисты» готовы были обходиться без самого нужного – только бы не переработать или не переплатить по сравнению с соседом. Многие из этих прелестей общинных взаимоотношений потом «переехали» в городские коммуналки вместе с самими носителями традиций.
Вряд ли коммуналка – это феномен какой-то особой, «маргинальной» культуры; скорее это та же община, тот же «социализм поневоле». Вот уж где всегда было раздолье для «классовых чувств» – и именно выходцы из деревни чувствовали себя в этих условиях наиболее комфортно, с готовностью вешая по двадцать электросчетчиков и «по справедливости» деля квадратные сантиметры на общей кухне и минуты в общей уборной…
Не бывает неких внешних «их» (злодеев или благодетелей) и «нас», с которыми «они» поступают так-то и так-то. Очень к месту тут будут слова Льва Аннинского:
«Откуда Гулаг? Сталин выдумал? Или так: Френкель выдумал, Берман, Ягода, Фирин, а Сталин – «разрешил»? Сколько народу прошло через Гулаг? Миллионы. Сколько нужно народу задействовать в охране и в обеспечении, чтобы охватить такое количество узников? Миллионы же. Что, эти миллионы упали с неба? Нет, пришли с земли. То есть: ушли с земли… И кто практически ликвидировал кулаков? Чья историческая ненависть была тут задействована? Чье желание было угадано?.. Нет, не на кого пенять, не на кого валить»
Попробуйте найти в ЧЛД фрагменты, которые могут показать, какое поведение признавалось в те годы доблестным примером для подражания. Поиск выведет, например, на отрывок из воспоминаний бригадира Шидека («Индустриализация») и обязательно, – на воспоминания Копелева («Коллективизация»).
Люди, жившие (и живущие) подобно Василевскому, Шидеку были и есть в любом обществе. Очень спокойно к описываемым вещам относятся на Востоке. В христианском же мире такое поведение принято скрывать, стыдиться его, страдать от того, что внешние обстоятельства вынуждали поступать подобным образом. В нашем государстве такую «жизненную позицию» на протяжении десятилетий пытались рассматривать в качестве нормы, – и, оглянувшись сейчас вокруг, мы должны признать, что воспитательный эффект был достигнут немалый.
Нам очень хотелось бы, чтобы вам пригодилась тема ЧЛД «Любовь или свобода?». Поймите суть спора – о чем говорят эти люди, в чем состоят непримиримые противоречия между ними. Поймите, почувствуйте слова академика, – в них один из главных ключей для понимания очень многих людей того времени.
«Я очень хорошо помню, какой страх охватывал меня,.. когда отца или мать… вызывали в сельсовет и держали там до 3-х часов ночи. Очень легко они могли не вернуться домой никогда …Пощады не было никакой. Если уж заем, так под завязку, если продразверстка, так от первой до второй может быть только несколько часов. И не потому, что там откуда-то были указания (именно на конкретного человека). А потому, что вот именно сами местные определяли, с кого содрать, а кого догола ободрать…
Откуда в обкоме или даже в райисполкоме могли знать, кто еще не вступил в колхоз. Сведения-то давали из сельсоветов. А активисты-то и старались друг перед другом, кто больше загонит…
Вот в то время, именно в то время и зарождалась великая лень. Все, кто мало-мало умел расписаться, хватались за какую-нибудь папку и лезли в инспекторы, в контролеры, проверяющие, страх нагоняющие и главное: человек был в их полной власти»
«В мае 1931 г. нас перебросили на кладку коксовых печей. Кладка здесь сложная, – из наших каменщиков никто на такой не работал. Здесь работали французы, и они дали норму 0,5 тонны. Плановый отдел увеличил до 0,8 тонны. Но когда я подсчитал, то понял, что какая бы ни была сложная работа, а тонну-то уж сделать можно. Мы выдвинули тонну.
Французы косились на нас, считали чудаками и сердились, особенно, когда мы еще новый встречный [план] выдвинули – 2,2 тонны. Потом мы и эту цифру перекрыли, давая до 3,8 тонны.
Французы несколько раз бросали работу и со злостью уходили, потому что не успевали за нами смотреть.
В конце концов французы удрали, уехали совсем, и цех мы построили без них. …
За нашей работой в течение 2 месяцев изо дня в день и даже ночью наблюдали писатели Панферов и Ильенков…
– Когда ты не бываешь на работе? – спрашивал меня Панферов.
Что я мог ответить? Когда мы кончали первую батарею в подарок XVI партийной конференции, то я в течение 4 дней не уходил с печи, домой не являлся. Подушкой для отдыха мне служила рельса, а чтобы было помягче, подкладывал брезентовые рукавицы.
Как раз перед этим у меня заболела жена, и я ее отправил в Томск, а дома остались двое ребят, одному 3 года, другому 7 лет. И вот, на второй день после моего ухода младший сынишка заболел и скоропостижно помер. Я под производственным угаром забыл про ребятишек. На пятый день прихожу домой и вижу – младший мой ребенок помер, а старший где-то ходит по площадке и ищет меня. Соседи также ходили и искали, но не нашли. А трупик начал уже пахнуть. Делать нечего, надо хоронить, а после пришлось хорошенько выпить. Пил за победу и пил за горе.
Потом мы работали на домне»
«Я слышал, как кричат дети, как заходятся, захлебываются криком. Я видел взгляды мужчин: испуганные, умоляющие, ненавидящие, тупо равнодушные, погашенные отчаянием, или взблескивающие полубезумной злой лихостью. Было мучительно трудно все это видеть, тем более самому участвовать. И уговаривал себя, объяснял себе: «нельзя поддаваться расслабляющей жалости, мы вершим историческую необходимость. Исполняем революционный долг. Добываем хлеб для социалистического отечества. Для пятилетки». И как и все мое поколение, я твердо верил в то, что цель оправдывает средства. Нашей великой целью был небывалый триумф коммунизма, и во имя этой цели все было дозволено – лгать, красть, уничтожать сотни тысяч или даже миллионы людей – всех, кто мешал нашей работе или мог помешать ей, всех, кто стоял у ней на пути. И все колебания или сомнения по этому поводу были проявлением «гнилой интеллигентщины» или «глупого либерализма», свойств людей, которые не способны «из-за деревьев увидеть леса».
Страшной весной 1933 года я видел, как люди мерли с голоду. Я все это видел и не свихнулся и не покончил с собой. Я не проклял тех, кто послал меня отбирать у крестьян хлеб зимой, а весной убеждать и заставлять их, еле волочивших ноги, до предела истощенных, отечных и больных, работать на полях, чтобы выполнить большевистский посевной план в ударные сроки. Не утратил я и своей веры. Как и прежде я верил потому, что хотел верить»
Академик Дмитрий Рождественский, из письма к другу, 1940 год:
«…Наша страна сделала первое и мощное, полное успеха усилие за истинное равенство людей, первый шаг по пути социализма. Она начала планомерную, упорную и суровую борьбу за любовь людей друг к другу…»
Карл Поппер, немецкий философ:
«…Я уверен: тот, кто учит, что править должен не разум, а любовь, открывает дорогу тому, кто будет убежден, что править должна ненависть»
Георгий Федотов, историк, философ:
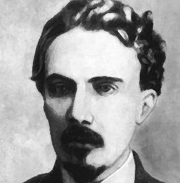 «…Свобода социальная утверждается на двух истинах христианства. Первая – абсолютная ценность личности («души»), которой нельзя пожертвовать ни для какого коллектива – народа, государства или даже Церкви… Вторая – свобода выбора пути – между истиной и ложью, добром и злом.
«…Свобода социальная утверждается на двух истинах христианства. Первая – абсолютная ценность личности («души»), которой нельзя пожертвовать ни для какого коллектива – народа, государства или даже Церкви… Вторая – свобода выбора пути – между истиной и ложью, добром и злом.
Вот именно эта вторая страшная свобода была так трудна для древнего христианского сознания, как ныне она трудна для сознания безбожного. Признать ее – значит поставить свободу выше любви… Все социальные инстинкты человека протестуют против такой «жестокости». Если можно вытащить за волосы утопающего человека, почему же нельзя его вытащить «за волосы» из ада? Но в притче о плевелах и пшенице сказано: «оставьте их вместе расти до жатвы»
АНТИСЕМИТИЗМ (ЮДОФОБИЯ). Хотя арабы тоже семитский народ, но антисемитизмом называется всё же только ненависть к евреям. По библейскому преданию евреи — народ, избранный Богом для того, чтобы через него возвещать свою волю всему человечеству. И Ветхий, и Новый Завет являются по сути историей жизни и духовных исканий этого народа.
Евреи, уверовавшие в Иисуса Христа, обратили в свою веру народы римской империи и растворились среди них (ведь для Христа «нет ни эллина, ни иудея»). Но большинство еврейского народа не признало Иисуса из Назарета Христом, Сыном Божиим, и продолжало ждать предсказанного явления Спасителя мира, свято соблюдая ветхозаветные законы и обычаи.
Судьба евреев, оставшихся правоверными иудеями, в последние два тысячелетия была трагична и удивительна. Сначала римляне, затем арабы, а потом и христианские государи рассеяли изгнанный из родной Палестины народ буквально по всему свету. Волна беженцев достигла и средневековой Европы, в которой не было места для чужаков‑иноверцев — их не принимали ни в сельские общины, ни в ремесленные цеха, ни в купеческие гильдии. Бывшие скотоводы и земледельцы, они осели в городах, где им достались занятия, не только осуждаемые, но и прямо запрещенные христианам.
Поэтому именно евреи становились тогда, помимо всего прочего, менялами и ростовщиками (обмен валюты, банковское дело солидны и престижны сейчас, но в те времена такие профессии вызывали только презрение и ненависть, как занятия греховные и грязные).
Евреи были единственными нехристианами, сумевшими выжить в этом враждебном окружении и не изменить вере отцов, они были единственными чужаками, больше тысячи лет жившими бок о бок с европейскими христианами, никогда не отличавшимися веротерпимостью. Поэтому неудивительно, что именно на них постоянно возлагали вину за все возможные несчастья — за недороды и эпидемии, падеж скота и прочие невзгоды помельче.
Антисемитизм стал дурной многовековой традицией населения во многих странах, и традицией очень удобной — всегда было на ком выместить своё отчаяние от любых бедствий, всегда можно было направить гнев озлобленной толпы против беззащитных чужаков, соблазнить её безнаказанностью погрома и грабежа (такую же роль, кстати, играли и христиане-армяне в мусульманской Турции).
Опомнилась Европа только в XX веке, ужаснувшись зверствам поголовного истребления евреев от мала до велика нацистами в оккупированных странах — Холокост многим вправил мозги. Сейчас в любой мало-мальски приличной стране выказать себя антисемитом, юдофобом считается столь же непристойным, как, например, «испортить воздух» в гостиной.
ПОПУЛИСТ — политик, руководитель, который всеми силами стремится нравиться тем, кого он называет “широкими народными массами”.
Всё время он рвется к власти, раздавая направо и налево несбыточные, противоречащие одно другому обещания. Он уверяет, что ему известны простые решения самых сложных общественных проблем, и именно он знает, как в одночасье привести страну ко всеобщему благоденствию.
Не очень честно, но эффективно: популист прекрасно смотрится на фоне тех своих конкурентов, которые до конца понимают всю тяжесть ситуации в стране, знают, что выход из кризиса неизбежно будет трудным, долгим, и имеют глупость (мужество?) прямо говорить об этом избирателям.
Но предвыборные обещания — это ещё полбеды. Настоящая беда для всех начинается тогда, когда дорвавшийся до власти наш герой примется, не дай бог, свои обещания выполнять.
Он повышает зарплаты — тут же повышаются цены, он пытается силой «заморозить» цены — сокращается торговля, а за ней и производство, возникает нехватка продуктов, вырастают хвосты очередей. Он дает деньги разоряющимся заводам — те тут же обменивают их на твердую валюту, обесценивая отечественные деньги, что опять ведет к росту цен и т.д., и т. д…
Иметь руководителя‑популиста может позволить себе только очень благополучное государство, и то ненадолго. Подчиняясь сиюминутным настроениям большинства, популист не способен обеспечить стратегические, долговременные интересы страны, удовлетворить даже завтрашние потребности того же большинства.
Европа не понимает национал-социалистического движения. Не понимает и боится. И от страха не понимает еще больше. И чем больше не понимает, тем больше верит всем отрицательным слухам, всем россказням «очевидцев», всем пугающим предсказателям. Леворадикальные публицисты чуть ли не всех европейских наций пугают друг друга из-за угла национал-социализмом и создают настоящую перекличку ненависти и злобы. К сожалению, и русская зарубежная печать начинает постепенно втягиваться в эту перекличку; европейские страсти начинают передаваться эмиграции и мутить ее взор. Нам, находящимся в самом котле событий, видящим все своими глазами, подверженным всем новым распоряжениям и законам, но сохраняющим духовное трезвение, становится нравственно невозможным молчать. Надо говорить; и говорить правду. Но к этой правде надо еще расчистить путь…
….
То, что происходит в Германии, есть огромный политический и социальный переворот; сами вожди его характеризуют постоянно словом «революция». Это есть движение национальной страсти и политического кипения, сосредоточившееся в течение 12 лет, и годами, да, годами лившее кровь своих приверженцев в схватках с коммунистами. Это есть реакция на годы послевоенного упадка и уныния: реакция скорби и гнева. Когда и где такая борьба обходилась без эксцессов? Но на нас, видевших русскую советскую революцию, самые эти эксцессы производят впечатление лишь гневных жестов или отдельных случайных некорректностей. …
Весь мир не видел и не знал, сколь неуклонно и глубоко проникала в Германию большевистская отрава. Не видела и сама немецкая масса. Видели и знали это только три группы: Коминтерн, организовывавший все это заражение; мы, русские зарубежники, осевшие в Германии; и вожди германского национал-социализма. Страна, зажатая между Версальским договором, мировым хозяйственным кризисом и перенаселением, рационализировавшая свою промышленность и добивающаяся сбыта, пухла от безработицы и медленно сползала в большевизм. Массовый процесс шел сам по себе; интеллигенция большевизировалась сама по себе. Коминтерн на каждой конференции предписывал удвоить работу и торжествующе подводил итоги. Ни одна немецкая партия не находила в себе мужества повести борьбу с этим процессом; и когда летом 1932 года обновившееся правительство заявило, что оно «берет борьбу с коммунизмом в свои руки», и никакой борьбы не повело, и заявлением своим только ослабило или прямо убило частную противокоммунистическую инициативу, — то процесс расползания страны пошел прямо ускоренным путем.
Реакция на большевизм должна была прийти. И она пришла. … Что cделал Гитлер? Он остановил процесс большевизации в Германии и оказал этим величайшую услугу всей Европе. Этот процесс в Европе далеко еще не кончился; червь будет и впредь глодать Европу изнутри. Но не по-прежнему. Не только потому, что многие притоны коммунизма в Германии разрушены; не только потому, что волна детонации уже идет по Европе; но главным образом потому, что сброшен либерально-демократический гипноз непротивленчества. Пока Муссолини ведет Италию, а Гитлер ведет Германию — европейской культуре дается отсрочка. Поняла ли это Европа? Кажется мне, что нет… Поймет ли это она в самом скором времени? Боюсь, что не поймет…
Гитлер взял эту отсрочку прежде всего для Германии. Он и его друзья сделают все, чтобы использовать ее для национально-духовного и социального обновления страны. Но взяв эту отсрочку, он дал ее и Европе. И европейские народы должны понять, что большевизм есть реальная и лютая опасность; что демократия есть творческий тупик; что марксистский социализм есть обреченная химера; что новая война Европе не по силам, — ни духовно, ни материально, и что спасти дело в каждой стране может только национальный подъем, который диктаториально и творчески возьмется за «социальное» разрешение социального вопроса.
До сих пор европейское общественное мнение все только твердит о том, что в Германии пришли к власти крайние расисты, антисемиты; что они не уважают права; что они не признают свободы; что они хотят вводить какой-то новый социализм; что все это «опасно»… Вряд ли нам удастся объяснить европейскому общественному мнению, что все эти суждения или поверхностны, или близоруки и пристрастны. Но постараемся же хоть сами понять правду.
Итак, в Германии произошел законный переворот. Германцам удалось выйти из демократического тупика, не нарушая конституции. Это было … легальное самоупразднение демократически-парламентского строя. И в то же время это было прекращением гражданской войны, из года в год кипевшей на всех перекрестках. Демократы не смеют называть Гитлера «узурпатором»; это будет явная ложь. Сторонники правопорядка должны прежде всего отметить стремительное падение кривой политических убийств во всей стране. Сторонники буржуазно-хозяйственной прочности должны вдуматься в твердые курсы и оживленные сделки на бирже.
И при всем этом то, что происходит в Германии, есть землетрясение или социальный переворот. Но это переворот не распада, а концентрации; не разрушения, а переустройства; не буйно-расхлестанный, а властно дисциплинированный и организованный; не безмерный, а дозированный. И что более всего замечательно, — вызывающий во всех слоях народа лояльное повиновение.
…
…Эти новые распоряжения и законы, изливающиеся потоком на страну, касаются только публичных прав, а не частных или имущественных. В них нет никакой экспроприирующей тенденции, если не считать опорочения прав, приобретенных спекулянтами во время инфляции и возможного выкупа земель, принадлежащих иностранным подданным. О социализме же в обычном смысле этого слова — нет и речи.
… Ведущий слой обновляется последовательно и радикально. Отнюдь не весь целиком; однако, в широких размерах. По признаку нового умонастроения; и в результате этого — нередко в сторону омоложения личного состава. Удаляется все, причастное к марксизму, социал-демократии и коммунизму; удаляются все интернационалисты и большевизаны; удаляется множество евреев, иногда (как, например, в профессуре) подавляющее большинство их, но отнюдь не все. Удаляются те, кому явно неприемлем «новый дух». Этот «новый дух» имеет и отрицательные определения и положительные. Он непримирим по отношению к марксизму, интернационализму и пораженческому бесчестию, классовой травле и реакционной классовой привилегированности, к публичной продажности, взяточничеству и растратам.
…
«Новый дух» национал-социализма имеет, конечно, и положительные определения: патриотизм, вера в самобытность германского народа и силу германского гения, чувство чести, готовность к жертвенному служению (фашистское «sacrificio»), дисциплина, социальная справедливость и внеклассовое, братски-всенародное единение. Этот дух составляет как бы субстанцию всего движения; у всякого искреннего национал-социалиста он горит в сердце, напрягает его мускулы, звучит в его словах и сверкает в глазах. Достаточно видеть эти верующие, именно верующие лица; достаточно увидеть эту дисциплину, чтобы понять значение происходящего и спросить себя: «да есть ли на свете народ, который не захотел бы создать у себя движение такого подъема и такого духа?…» Словом — этот дух, роднящий немецкий национал-социализм с итальянским фашизмом. Однако не только с ним, а еще и с духом русского белого движения.
…Основное и существенное единит все три движения; общий и единый враг, патриотизм, чувство чести, добровольно-жертвенное служение, тяга к диктаториальной дисциплине, к духовному обновлению и возрождению своей страны, искание новой социальной справедливости и непредрешенчество в вопросе о политической форме. Что вызывает в душе священный гнев? чему предано сердце? к чему стремится воля? чего и как люди добиваются? — вот что существенно. Конечно, германец, итальянец и русский — болеют каждый о своей стране и каждый по-своему; но дух одинаков и в исторической перспективе един.
…
Дух национал-социализма не сводится к «расизму». Он не сводится и к отрицанию. Он выдвигает положительные и творческие задачи. И эти творческие задачи стоят перед всеми народами. Искать путей к разрешению этих задач обязательно для всех нас. Заранее освистывать чужие попытки и злорадствовать от их предчувствуемой неудачи — неумно и неблагородно.