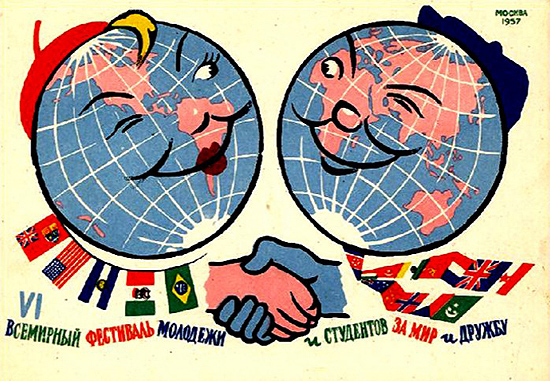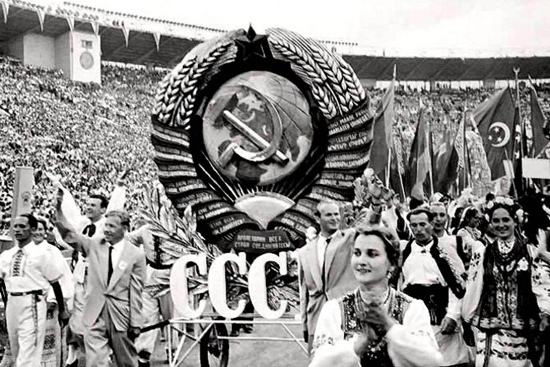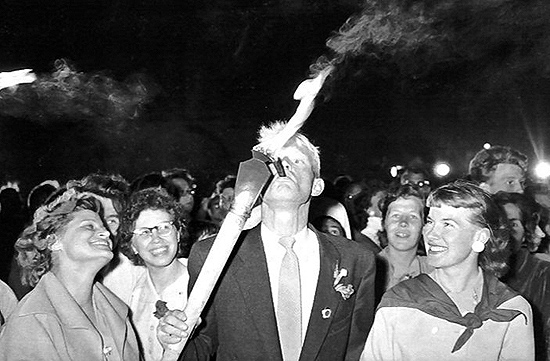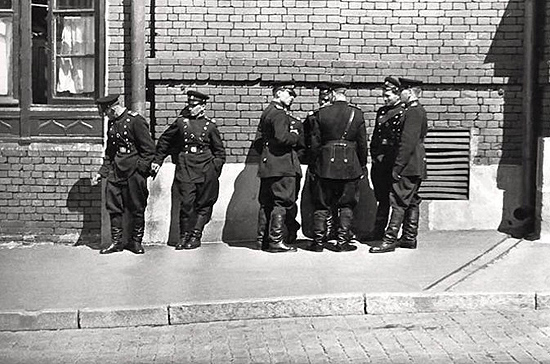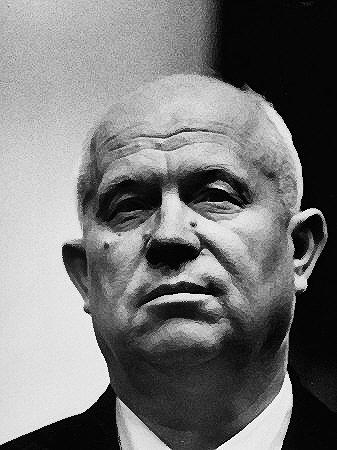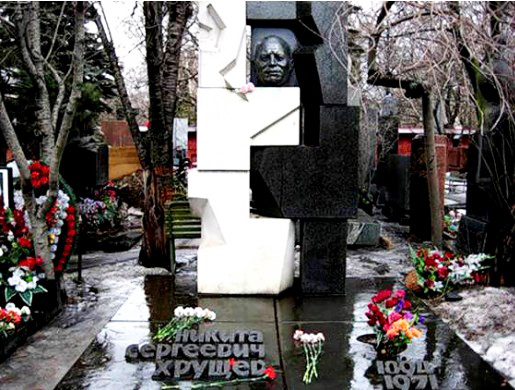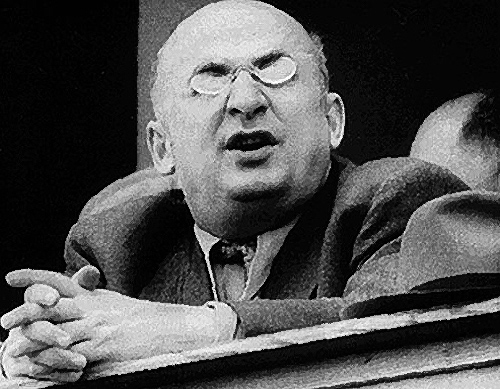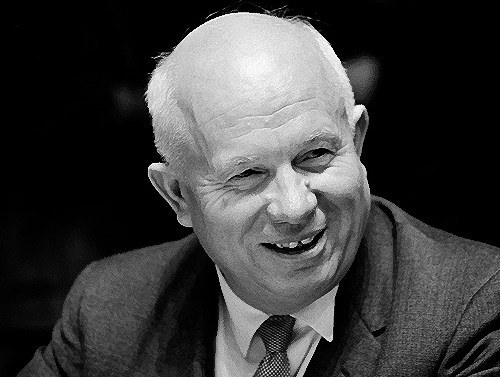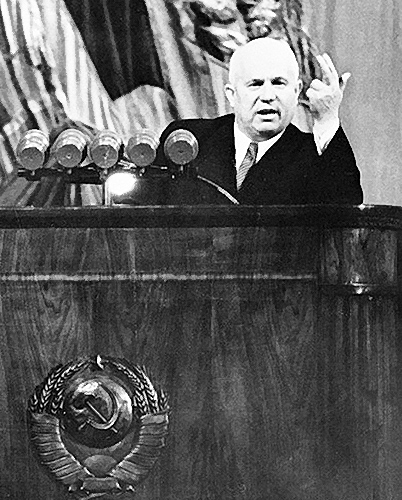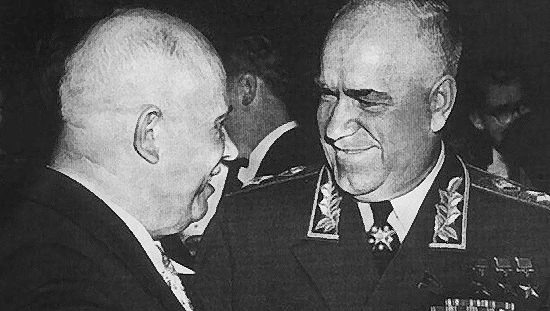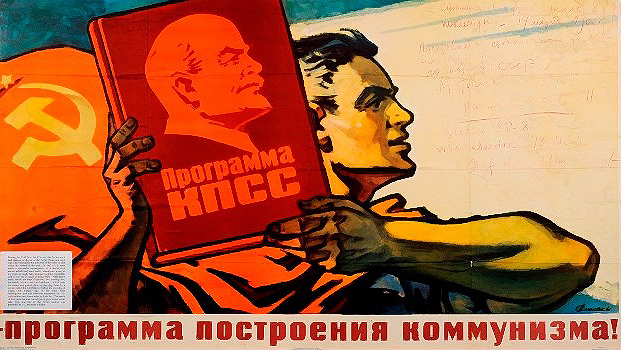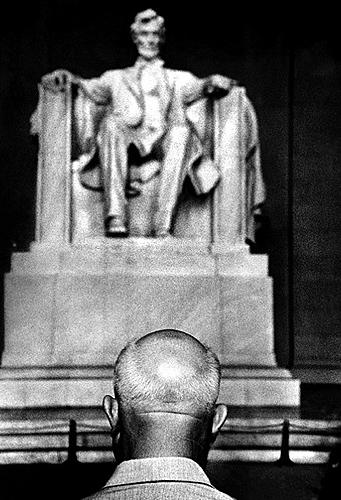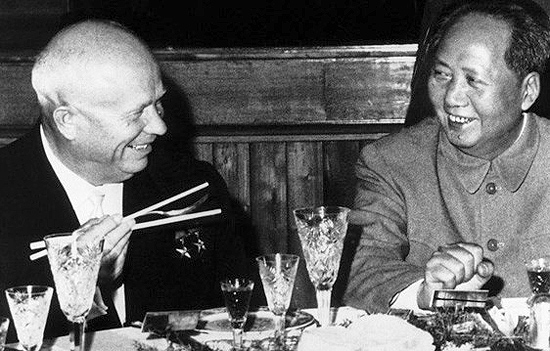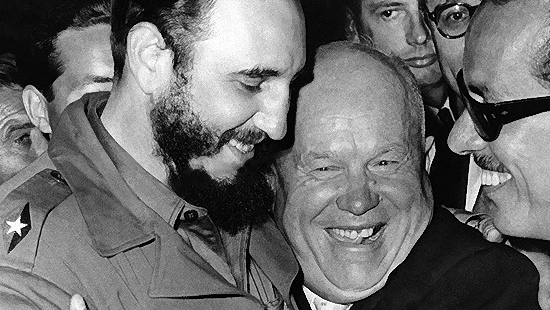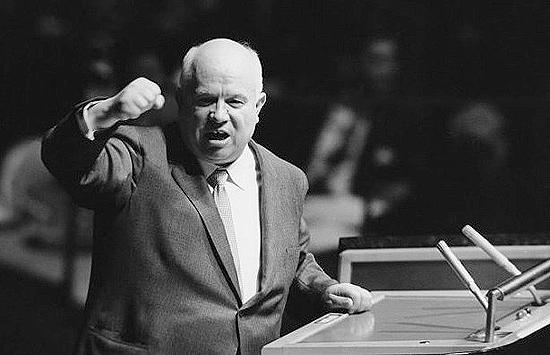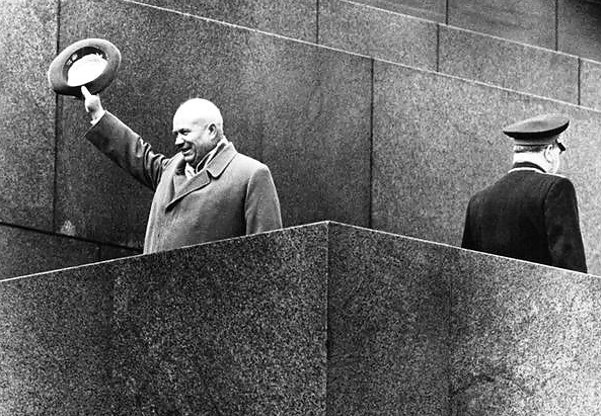Ужин кончился. Глебов неторопливо вылизал миску, тщательно сгреб со стола хлебные крошки в левую ладонь и, поднеся ее ко рту, бережно слизал крошки с ладони. Не глотая, он ощущал, как слюна во рту густо и жадно обволакивает крошечный комочек хлеба. Глебов не мог бы сказать, было ли это вкусно. Вкус — это что-то другое, слишком бедное по сравнению с этим страстным, самозабвенным ощущением, которое давала пища. Глебов не торопился глотать: хлеб сам таял во рту, и таял быстро.
Ввалившиеся, блестящие глаза Багрецова неотрывно глядели Глебову в рот — не было ни в ком такой могучей воли, которая помогла бы отвести глаза от пищи, исчезающей во рту другого человека. Глебов проглотил слюну, и сейчас же Багрецов перевел глаза к горизонту — на большую оранжевую луну, выползавшую на небо.
— Пора, — сказал Багрецов.
Они молча пошли по тропе к скале и поднялись на небольшой уступ, огибавший сопку; хоть солнце зашло недавно, камни, днем обжигавшие подошвы сквозь резиновые галоши, надетые на босу ногу, сейчас уже были холодными. Глебов застегнул телогрейку. Ходьба не грела его.
— Далеко еще? — спросил он шепотом.
— Далеко, — негромко ответил Багрецов.
Они сели отдыхать. Говорить было не о чем, да и думать было не о чем — все было ясно и просто. На площадке, в конце уступа, были кучи развороченных камней, сорванного, ссохшегося мха.
— Я мог бы сделать это и один, — усмехнулся Багрецов, — но вдвоем веселее. Да и для старого приятеля… Их привезли на одном пароходе в прошлом году. Багрецов остановился.
— Надо лечь, увидят.
Они легли и стали отбрасывать в сторону камни. Больших камней, таких, чтобы нельзя было поднять, переместить вдвоем, здесь не было, потому что те люди, которые набрасывали их сюда утром, были не сильнее Глебова.
Багрецов негромко выругался. Он оцарапал палец, текла кровь. Он присыпал рану песком, вырвал клочок ваты из телогрейки, прижал — кровь не останавливалась.
— Плохая свертываемость, — равнодушно сказал Глебов.
— Ты врач, что ли? — спросил Багрецов, отсасывая кровь.
Глебов молчал. Время, когда он был врачом, казалось очень далеким. Да и было ли такое время? Слишком часто тот мир за горами, за морями казался ему каким-то сном, выдумкой. Реальной была минута, час, день от подъема до отбоя — дальше он не загадывал и не находил в себе сил загадывать. Как и все.
Он не знал прошлого тех людей, которые его окружали, и не интересовался им. Впрочем, если бы завтра Багрецов объявил себя доктором философии или маршалом авиации, Глебов поверил бы ему, не задумываясь. Был ли он сам когда-нибудь врачом? Утрачен был не только автоматизм суждений, но и автоматизм наблюдений. Глебов видел, как Багрецов отсасывал кровь из грязного пальца, но ничего не сказал. Это лишь скользнуло в его сознании, а воли к ответу он в себе найти не мог и не искал. То сознание, которое у него еще оставалось и которое. возможно, уже не было человеческим сознанием, имело слишком мало граней и сейчас было направлено лишь на одно — чтобы скорее убрать камни.
— Глубоко, наверно? — спросил Глебов, когда они улеглись отдыхать.
— Как она может быть глубокой? — сказал Багрецов. И Глебов сообразил, что он спросил чепуху и что яма действительно не может быть глубокой.
— Есть, — сказал Багрецов.
Он дотронулся до человеческого пальца. Большой палец ступни выглядывал из камней — на лунном свету он был отлично виден. Палец был не похож на пальцы Глебова или Багрецова, но не тем, что был безжизненным и окоченелым, — в этом-то было мало различия. Ногти на этом мертвом пальце были острижены, сам он был полнее и мягче глебовского. Они быстро откинули камни, которыми было завалено тело.
— Молодой совсем, — сказал Багрецов.
Вдвоем они с трудом вытащили труп за ноги.
— Здоровый какой, — сказал Глебов, задыхаясь.
— Если бы он не был такой здоровый, — сказал Багрецов, — его похоронили бы так, как хоронят нас, и нам не надо было бы идти сюда сегодня.
Они разогнули мертвецу руки и стащили рубашку.
— А кальсоны совсем новые, — удовлетворенно сказал Багрецов.
Стащили и кальсоны. Глебов запрятал комок белья под телогрейку.
— Надень лучше на себя, — сказал Багрецов.
— Нет, не хочу, — пробормотал Глебов.
Они уложили мертвеца обратно в могилу и закидали ее камнями.
Синий свет взошедшей луны ложился на камни, на редкий лес тайги, показывая каждый уступ, каждое дерево в особом, не дневном виде. Все казалось по-своему настоящим, но не тем, что днем. Это был как бы второй, ночной, облик мира.
Белье мертвеца согрелось за пазухой Глебова и уже не казалось чужим.
— Закурить бы, — сказал Глебов мечтательно.
— Завтра закуришь.
Багрецов улыбался. Завтра они продадут белье, променяют на хлеб, может быть, даже достанут немного табаку… 1954
Играли в карты у коногона Наумова. Дежурные надзиратели никогда не заглядывали в барак коногонов, справедливо полагая свою главную службу в наблюдении за осужденными по пятьдесят восьмой статье. Лошадей же, как правило, контрреволюционерам не доверяли. Правда, начальники-практики втихомолку ворчали: они лишались лучших, заботливейших рабочих, но инструкция на сей счет была определенна и строга. Словом, у коногонов было всего безопасней, и каждую ночь там собирались блатные для своих карточных поединков.
В правом углу барака на нижних нарах были разостланы разноцветные ватные одеяла. К угловому столбу была прикручена проволокой горящая «колымка» — самодельная лампочка на бензинном паре. В крышку консервной банки впаивались три-четыре открытые медные трубки — вот и все приспособление. Для того чтобы эту лампу зажечь, на крышку клали горячий уголь, бензин согревался, пар поднимался по трубкам, и бензиновый газ горел, зажженный спичкой.
На одеялах лежала грязная пуховая подушка, и по обеим сторонам ее, поджав по-бурятски ноги, сидели партнеры — классическая поза тюремной карточной битвы. На подушке лежала новенькая колода карт. Это не были обыкновенные карты, это была тюремная самодельная колода, которая изготовляется мастерами сих дел со скоростью необычайной. Для изготовления ее нужны бумага (любая книжка), кусок хлеба (чтобы его изжевать и протереть сквозь тряпку для получения крахмала — склеивать листы), огрызок химического карандаша (вместо типографской краски) и нож (для вырезывания и трафаретов мастей, и самих карт).
Сегодняшние карты были только что вырезаны из томика Виктора Гюго — книжка была кем-то позабыта вчера в конторе. Бумага была плотная, толстая — листков не пришлось склеивать, что делается, когда бумага тонка. В лагере при всех обысках неукоснительно отбирались химические карандаши. Их отбирали и при проверке полученных посылок. Это делалось не только для пресечения возможности изготовления документов и штампов (было много художников и таких), но для уничтожения всего, что может соперничать с государственной карточной монополией. Из химического карандаша делали чернила, и чернилами сквозь изготовленный бумажный трафарет наносили узоры на карту — дамы, валеты, десятки всех мастей… Масти не различались по цвету — да различие и не нужно игроку. Валету пик, например, соответствовало изображение пики в двух противоположных углах карты. Расположение и форма узоров столетиями были одинаковыми — уменье собственной рукой изготовить карты входит в программу «рыцарского» воспитания молодого блатаря.
Новенькая колода карт лежала на подушке, и один из играющих похлопывал по ней грязной рукой с тонкими, белыми, нерабочими пальцами. Ноготь мизинца был сверхъестественной длины — тоже блатарский шик, так же, как «фиксы» — золотые, то есть бронзовые, коронки, надеваемые на вполне здоровые зубы. Водились даже мастера — самозваные зубопротезисты, немало подрабатывающие изготовлением таких коронок, неизменно находивших спрос. Что касается ногтей, то цветная полировка их, бесспорно, вошла бы в быт преступного мира, если б можно было в тюремных условиях завести лак. Холеный желтый ноготь поблескивал, как драгоценный камень. Левой рукой хозяин ногтя перебирал липкие и грязные светлые волосы. Он был подстрижен «под бокс» самым аккуратнейшим образом. Низкий, без единой морщинки лоб, желтые кустики бровей, ротик бантиком — все это придавало его физиономии важное качество внешности вора: незаметность. Лицо было такое, что запомнить его было нельзя. Поглядел на него — и забыл, потерял все черты, и не узнать при встрече. Это был Севочка, знаменитый знаток терца, штоса и буры — трех классических карточных игр, вдохновенный истолкователь тысячи карточных правил, строгое соблюдение которых обязательно в настоящем сражении. Про Севочку говорили, что он «превосходно исполняет» — то есть показывает умение и ловкость шулера. Он и был шулер, конечно; честная воровская игра — это и есть игра на обман: следи и уличай партнера, это твое право, умей обмануть сам, умей отспорить сомнительный выигрыш.
Играли всегда двое — один на один. Никто из мастеров не унижал себя участием в групповых играх вроде очка. Садиться с сильными «исполнителями» не боялись — так и в шахматах настоящий боец ищет сильнейшего противника.
Партнером Севочки был сам Наумов, бригадир коногонов. Он был старше партнера (впрочем, сколько лет Севочке — двадцать? тридцать? сорок?), черноволосый малый с таким страдальческим выражением черных, глубоко запавших глаз, что, не знай я, что Наумов железнодорожный вор с Кубани, я принял бы его за какого-нибудь странника — монаха или члена известной секты «Бог знает», секты, что вот уже десятки лет встречается в наших лагерях. Это впечатление увеличивалось при виде гайтана с оловянным крестиком, висевшего на шее Наумова, — ворот рубахи его был расстегнут. Этот крестик отнюдь не был кощунственной шуткой, капризом или импровизацией. В то время все блатные носили на шее алюминиевые крестики — это было опознавательным знаком ордена, вроде татуировки.
В двадцатые годы блатные носили технические фуражки, еще ранее — капитанки. В сороковые годы зимой носили они кубанки, подвертывали голенища валенок, а на шее носили крест. Крест обычно был гладким, но если случались художники, их заставляли иглой расписывать по кресту узоры на любимые темы: сердце, карта, крест, обнаженная женщина… Наумовский крест был гладким. Он висел на темной обнаженной груди Наумова, мешая прочесть синюю наколку-татуировку — цитату из Есенина, единственного поэта, признанного и канонизированного преступным миром:
Как мало пройдено дорог,
Как много сделано ошибок.
— Что ты играешь? — процедил сквозь зубы Севочка с бесконечным презрением: это тоже считалось хорошим тоном начала игры.
— Вот тряпки. Лепеху эту… И Наумов похлопал себя по плечам.
— В пятистах играю, — оценил костюм Севочка. В ответ раздалась громкая многословная ругань, которая должна была убедить противника в гораздо большей стоимости вещи. Окружающие игроков зрители терпеливо ждали конца этой традиционной увертюры. Севочка не оставался в долгу и ругался еще язвительней, сбивая цену. Наконец костюм был оценен в тысячу. Со своей стороны, Севочка играл несколько поношенных джемперов. После того как джемперы были оценены и брошены тут же на одеяло, Севочка стасовал карты.
Я и Гаркунов, бывший инженер-текстильщик, пилили для наумовского барака дрова. Это была ночная работа — после своего рабочего забойного дня надо было напилить и наколоть дров на сутки. Мы забирались к коногонам сразу после ужина — здесь было теплей, чем в нашем бараке. После работы наумовский дневальный наливал в наши котелки холодную «юшку» — остатки от единственного и постоянного блюда, которое в меню столовой называлось «украинские галушки», и давал нам по куску хлеба. Мы садились на пол где-нибудь в углу и быстро съедали заработанное. Мы ели в полной темноте — барачные бензинки освещали карточное поле, но, по точным наблюдениям тюремных старожилов, ложки мимо рта не пронесешь. Сейчас мы смотрели на игру Севочки и Наумова.
Наумов проиграл свою «лепеху». Брюки и пиджак лежали около Севочки на одеяле. Игралась подушка. Ноготь Севочки вычерчивал в воздухе замысловатые узоры. Карты то исчезали в его ладони, то появлялись снова. Наумов был в нательной рубахе — сатиновая косоворотка ушла вслед за брюками. Услужливые руки накинули ему на плечи телогрейку, но резким движением плеч он сбросил ее на пол. Внезапно все затихло. Севочка неторопливо почесывал подушку своим ногтем.
— Одеяло играю, — хрипло сказал Наумов.
— Двести, — безразличным голосом ответил Севочка.
— Тысячу, сука! — закричал Наумов.
— За что? Это не вещь! Это — локш, дрянь, — выговорил Севочка. — Только для тебя — играю за триста.
Сражение продолжалось. По правилам, бой не может быть окончен, пока партнер еще может чем-нибудь отвечать.
— Валенки играю.
— Не играю валенок, — твердо сказал Севочка. — Не играю казенных тряпок.
В стоимости нескольких рублей был проигран какой-то украинский рушник с петухами, какой-то портсигар с вытисненным профилем Гоголя — все уходило к Севочке. Сквозь темную кожу щек Наумова проступил густой румянец.
— На представку, — заискивающе сказал он.
— Очень нужно, — живо сказал Севочка и протянул назад руку: тотчас же в руку была вложена зажженная махорочная папироса. Севочка глубоко затянулся и закашлялся. — Что мне твоя представка? Этапов новых нет — где возьмешь? У конвоя, что ли?
Согласие играть «на представку», в долг, было необязательным одолжением по закону, но Севочка не хотел обижать Наумова, лишать его последнего шанса на отыгрыш.
— В сотне, — сказал он медленно. — Даю час представки.
— Давай карту. — Наумов поправил крестик и сел. Он отыграл одеяло, подушку, брюки — и вновь проиграл все.
— Чифирку бы подварить, — сказал Севочка, укладывая выигранные вещи в большой фанерный чемодан. — Я подожду.
— Заварите, ребята, — сказал Наумов.
Речь шла об удивительном северном напитке — крепком чае, когда на небольшую кружку заваривается пятьдесят и больше граммов чая. Напиток крайне горек, пьют его глотками и закусывают соленой рыбой. Он снимает сон и потому в почете у блатных и у северных шоферов в дальних рейсах. Чифирь должен бы разрушительно действовать на сердце, но я знавал многолетних чифиристов, переносящих его почти безболезненно. Севочка отхлебнул глоток из поданной ему кружки.
Тяжелый черный взгляд Наумова обводил окружающих. Волосы спутались. Взгляд дошел до меня и остановился.
Какая-то мысль сверкнула в мозгу Наумова.
— Ну-ка, выйди.
Я вышел на свет.
— Снимай телогрейку.
Было уже ясно, в чем дело, и все с интересом следили за попыткой Наумова.
Под телогрейкой у меня было только казенное нательное белье — гимнастерку выдавали года два назад, и она давно истлела. Я оделся.
— Выходи ты, — сказал Наумов, показывая пальцем на Гаркунова.
Гаркунов снял телогрейку. Лицо его побелело. Под грязной нательной рубахой был надет шерстяной свитер — это была последняя передача от жены перед отправкой в дальнюю дорогу, и я знал, как берег его Гаркунов, стирая его в бане, суша на себе, ни на минуту не выпуская из своих рук, — фуфайку украли бы сейчас же товарищи.
— Ну-ка, снимай, — сказал Наумов.
Севочка одобрительно помахивал пальцем — шерстяные вещи ценились. Если отдать выстирать фуфаечку да выпарить из нее вшей, можно и самому носить — узор красивый.
— Не сниму, — сказал Гаркунов хрипло. — Только с кожей…
На него кинулись, сбили с ног.
— Он кусается, — крикнул кто-то.
С пола медленно поднялся Гаркунов, вытирая рукавом кровь с лица. И сейчас же Сашка, дневальный Наумова, тот самый Сашка, который час назад наливал нам супчику за пилку дров, чуть присел и выдернул что-то из-за голенища валенка. Потом он протянул руку к Гаркунову, и Гаркунов всхлипнул и стал валиться на бок.
— Не могли, что ли, без этого! — закричал Севочка. В мерцавшем свете бензинки было видно, как сереет лицо Гаркунова.
Сашка растянул руки убитого, разорвал нательную рубашку и стянул свитер через голову. Свитер был красный, и кровь на нем была едва заметна. Севочка бережно, чтобы не запачкать пальцев, сложил свитер в фанерный чемодан. Игра была кончена, и я мог идти домой. Теперь надо было искать другого партнера для пилки дров. 1956
1894-1971
Жизненный путь, типичный для партийного деятеля его поколения. Родом из деревни Калиновка Курской губернии. До 14 лет крестьянствовал, затем – шахтерский поселок в Донбассе, чернорабочий, слесарь, шахтер. К 1917 году молодой Никита Хрущев – уже довольно популярная личность в шахтерской среде (не раз организовывал забастовки), поэтому он оказался среди первых депутатов местного Совета. Участник боев гражданской войны.
Прошел все ступени партийной карьеры. Один из немногих делегатов «съезда победителей», не только уцелевший во времена «большого террора», но и сделавший стремительную карьеру в те страшные годы – к 1938 году он оказался в десятке самых влиятельных людей в стране (член Политбюро, партийный руководитель Украины). Во время войны – представитель ЦК в командовании различных фронтов, толковый и энергичный организатор. После войны – вновь на Украине, затем становится первым секретарем московской парторганизации, секретарем ЦК, входит в ближайшее окружение вождя.
Как и все в сталинском окружении, Хрущев был участником многочисленных «чисток» и репрессий (позже он сам признавался, что у него «руки в крови»), однако он никогда не был их инициатором и энтузиастом, истовым палачом – скорее напуганным исполнителем требований «сверху». Иногда он даже осмеливался уводить из-под «топора» намеченных карателями жертв (запланированное после «ленинградского» «московское дело» так и не состоялось во многом благодаря его возражениям). Годы своей близости к Сталину вспоминал потом с неподдельным ужасом, как самое страшное время в своей жизни.
Многолетнее пребывание «во власти» так и не превратило Хрущева в «винтик», в стандартного функционера-чиновника Став почти единоличным «хозяином» могущественной сверхдержавы, он не приобрел ни малейшего ореола «величия» и бюрократической «загадочности», сохранив все черты и манеры живого, импульсивного, непосредственного человека – например, он так и не освоил нехитрого искусства читать хотя бы важнейшие речи «по бумажке», нередко приводя в отчаяние помощников импровизированными «лирическими отступлениями». К «бумажкам» вообще относился настороженно, доверяя по-настоящему только собственным глазам и ушам, поэтому все десять лет своего правления провел в поездках по стране и миру.
Хрущев был одним из немногих партийных руководителей «старого закала», для которых коммунизм еще не превратился в пустой звук и пропагандистское прикрытие, а продолжал оставаться живой, практической целью и близкой мечтой. Главным во власти для него была возможность воплотить в жизнь эту идею, давать по ходу дела свои советы, рекомендации, оценки.
Ненавидя бюрократов и бюрократизм, Хрущев всю жизнь оставался в плену чисто чиновничьей иллюзии – верил, что достаточно «сверху» отдать разумные распоряжения, правильно подобрать исполнителей и хорошенько с них спросить – и вполне можно решить любую государственную проблему, улучшить жизнь народа. Страшно переживал, когда это раз за разом не получалось, но не отчаивался: придумывал новые распоряжения, неутомимо переставлял и тасовал чиновников, – пока измученные аппаратчики не решились убрать его самого.
После отставки, на пенсии он прожил еще семь лет – на даче, под бдительным надзором КГБ. Сначала очень переживал вероломство своих «соратников», страдал от вынужденного безделья; потом деятельная и неутомимая натура взяла свое – много возился на любимом приусадебном участке (с гордостью показывая немногочисленным гостям свои великолепные помидоры, чуть ли не в килограмм весом), внимательно следил за политическими событиями, слушая «Голос Америки» и «Би-би-си», надиктовывал на магнитофон свои воспоминания, в которых передумывал и переосмысливал прожитую жизнь. Жалел о многом – например, о громких «разносах», которые устраивал писателям, поэтам, художникам. Но ни разу не пожалел о том, что не продолжил сталинской традиции «железного кулака».
После публикации его мемуаров за границей и соответствующего «общения» по этому поводу со своими бывшими соратниками перенес два инфаркта и умер 11 сентября 1971 года. В день похорон московское Новодевичье кладбище было плотно оцеплено милицией и войсками, а на воротах висела табличка: «Санитарный день»…
На могиле Никиты Хрущева стоит надгробный памятник – его бронзовая голова в разломе белой и черной мраморных плит.
СССР и «социалистический лагерь» в годы «холодной войны»
ДЕСТАЛИНИЗАЦИЯ
После II Мировой войны Советский Союз вышел из международной изоляции, и его руководство получило возможность активно влиять на течение международных дел и на внутренние события во многих странах. Советский «коммунизм» не только провозгласил себя альтернативой западному капитализму, но уже реально создал «мировую систему социализма» и продолжал расширять ее.
Пока был жив Сталин, главной силой распространявшегося по планете «мирового коммунизма» считалась военная мощь первой страны социализма. Все ресурсы СССР были мобилизованы для скорейшего достижения военного превосходства над США и их западными союзниками. Население работало и выживало на пределе своих возможностей и государственная машина продолжала полностью контролировать ситуацию в стране.
Сталин был убежден, что созданная в стране политическая система и в дальнейшем не даст сбоя и обеспечит «победу социализма в мировом масштабе». Но 5 марта 1953 года в безупречной конструкции тоталитарной власти обнаружилось одно очень уязвимое место – ее вождь оказался смертным человеком. Забальзамированное тело Сталина положили в мавзолей на Красной площади рядом с телом Ленина, и созданное им государство должно было научиться жить без абсолютного и непогрешимого земного бога.
Борьба за власть. Умерший диктатор обладал такой полнотой власти, что его уход в буквальном смысле обезглавил всю систему государственного управления. Соратники Сталина могли занять его официальные должности, но никто из них не был в состоянии стать единоличным вождем созданной им системы. Поэтому на первых порах им пришлось договориться об установлении «коллективного руководства», костяком которого стал союз трех самых влиятельных людей режима – Лаврентия Берии, Георгия Маленкова и Никиты Хрущева.
Власть между собой они поделили следующим образом: Берия возглавил органы госбезопасности, милицию и внутренние, охранные войска, Маленков стал председателем Совета министров, взяв под контроль все хозяйственные органы, Хрущев же встал во главе секретариата ЦК – аппарата управления партией. Но все понимали, что «трем медведям в одной берлоге» не ужиться – тоталитарная система могла быть устойчивой, только если управлялась строго из одного центра. Согласие трех равных по силе (и глубоко не доверявших друг другу) лидеров не могло быть ни долговременным, ни прочным.
В предвидении будущей схватки за единоличную власть соперники пытались заранее укрепить свои позиции. Берия объединил под своим началом все охранные и карательные органы и объявил о массовой амнистии уголовников (всплеск бандитизма мог повысить «авторитет» его ведомства); Маленков завоевывал популярность в стране, обещая хозяйственные послабления и быстрый подъем жизненного уровня населения; Хрущев сплачивал вокруг себя сторонников восстановления партийного контроля над «органами» и хозяйственниками (очень важным козырем в его руках стало возвращение в столицу на пост замминистра обороны опального маршала Жукова, непримиримого врага палача армии Берии).
До конца выяснить все хитросплетения интриг 1953 года уже вряд ли когда-нибудь удастся. Судя по всему, в жестокой закулисной борьбе за власть столкнулись два заговора – Берии и Хрущева, и в победе последнего решающую роль сыграли страх всех руководителей перед главой сталинского репрессивного аппарата и ненависть к нему боевых маршалов и генералов. В конце июня на заседании руководства страны в Кремле Берия с согласия всех присутствующих был арестован группой армейских генералов во главе с маршалом Жуковым. Закрытый военный трибунал приговорил Берию к смерти.
Маленков провел значительное (в 2,5 раза) снижение натуральных налогов с крестьянских хозяйств, списал с них прошлые долги, дал указание расширить приусадебные участки, обрушился с критикой на чиновников-бюрократов. Газеты с его докладом зачитывались в деревне «до дыр», но растущая популярность главы правительства вовсе не способствовала укреплению его позиций в руководстве. Маленкова обвинили в «заигрывании с массами», в попытке вывести государственные органы из-под партийного контроля, и он вынужден был подать в отставку с поста председателя правительства.
Хрущев боролся за власть энергично и умело и к 1956 году, занимая только высший партийный пост, сосредоточил в своих руках основные нити управления страной.
Никто из наследников Сталина не хотел возвращения к старым порядкам – и тем более не желали этого сотни тысяч партийных «ответственных работников», которые впервые в жизни почувствовали себя в относительной безопасности от «недреманного ока» и «тяжелой руки» Хозяина. Эти люди из всех новых лидеров готовы были поддерживать именно Хрущева – самого «безобидного», «простого» и «демократичного» из всей сталинской когорты.
Внешне, по стилю поведения Никита Сергеевич был полной противоположностью Сталину – он не внушал не только страха, но даже и привычного, испытываемого перед любым начальником почтительного трепета. Играть роль «великого вождя», «гения всех времен и народов» он не смог бы, даже если бы и пожелал – и именно в этом уставшие бояться люди чувствовали для себя самую надежную гарантию… Уже потом, когда страх подзабылся, у многих «открылись глаза» – как может этот простоватый, малограмотный, несдержанный, невеличественный человек возглавлять великую державу?!
Начало десталинизации. В 1953 году возвратились из лагерей люди, близко связанные с новыми руководителями партии, государства и армии (остальные продолжали сидеть). О страшных подробностях мучений миллионов невинных людей за колючей проволокой новые лидеры страны получили возможность узнать не из сводок «органов», а из живых рассказов своих собственных родственников, друзей и ближайших сотрудников.
После смерти Сталина, казни Берии и его ближайших подручных продолжать «большой террор» было некому и незачем. Но и решиться вернуть свободу миллионам сталинских жертв было трудно: во-первых, в репрессиях активно «поучаствовали» практически все высшие, ныне действующие руководители, а во-вторых, всему происшедшему требовалось дать какое-то объяснение, рискуя тем самым подорвать основы построенного в СССР «социализма». До 1956 года негласный пересмотр старых «дел» шел так медленно, что ликвидация лагерей могла растянуться на десятилетия. Одновременно, начиная с лета 1953 года, постепенно сворачивалась пропаганда «величия» Сталина – с улиц исчезали его огромные портреты, газеты печатали осторожные статьи о недопустимости преувеличения роли отдельных личностей в истории (ясно было, что речь идет не о Наполеоне, но конкретное имя «личности» пока не называлось).
XX съезд. Настоящий прорыв в десталинизации общества произошел на ХХ съезде КПСС в начале 1956 года. Инициативу и всю ответственность за это взял на себя Никита Хрущев. Накануне съезда он предложил внести в отчетный доклад ЦК раздел с критикой сталинских методов управления страной, но получил отпор от остальных членов «старой гвардии» (Молотов, Каганович, Маленков и др.). Тогда Хрущев втайне стал готовить собственный доклад на эту тему. Когда съезд открылся, первый секретарь неожиданно заявил своим соратникам, что полномочия прежнего ЦК истекли, и он вправе не подчиниться их запрету. Хрущев пригрозил, что за разрешением прочитать свой доклад о Сталине он обратится непосредственно к делегатам съезда. Поняв, что остановить Хрущева не удастся, остальные лидеры партии попросили его лишь о том, чтобы выборы нового ЦК прошли раньше доклада (они опасались, что после такого выступления их шансы на переизбрание будут невелики).
Сразу же после выборов делегатов съезда пригласили на закрытое заседание [на гостевых местах сидели специально приглашенные Хрущевым около ста только что освобожденных из лагерей старых партработников]. Вышедший на трибуну первый секретарь партии начал свой доклад в потрясенном безмолвии всего зала – делегаты, затаив дыхание, слушали слова, немыслимые здесь уже около тридцати лет. Хрущев рассказывал о нежелании Ленина видеть Сталина во главе партии, о том, как физически уничтожались партийные кадры, как пытками вырывались у них признания в самых диких, невероятных преступлениях, как накануне войны был ликвидирован цвет советского офицерства, о тяжелейших просчетах в первый период войны, о целенаправленном и расчетливом создании в стране почти религиозного культа Сталина самим Сталиным.
Нельзя сказать, что слушатели вовсе не знали об этих событиях. Но еще вчера ответственность за все преступления и провалы возлагалась на «пробравшихся к руководству провокаторов и перерожденцев». Потрясением было узнать (а, вернее, откровенно отдать себе в этом отчет), что главным их виновником и организатором был сам «великий вождь и учитель» – нескольким делегатам во время доклада сделалось дурно и их вынесли из зала. У многих было такое чувство, что рушится все, чему эти люди свято верили, чему служили всю свою жизнь.
Но Хрущев сделал все, чтобы рассеять эти тяжкие сомнения: критикуя сталинские «перегибы» по отношению к крестьянству, он не ставил под сомнение правильность политики коллективизации; говоря о невинных жертвах сталинского режима, он не включил в их число «раскулаченных» и партийных лидеров 20 – 30-х годов, возглавлявших реальную внутрипартийную оппозицию Сталину («троцкистов», «зиновьевцев», «бухаринцев»). Главные обвинения против Сталина заключались в том, что он вывел из-под партийного контроля карательные органы, управление государством, идеологией, что он встал над партией и установил единоличную диктатуру. В то же время общее направление преобразований в стране после 1917 года было признано совершенно правильным, насилие – неизбежным и оправданным, а «лишние» жертвы при этом объяснялись личными недостатками характера диктатора (его болезненной подозрительностью, жестокостью и т. д.). Именно поэтому новый политический курс Хрущева получил название «борьбы с культом личности Сталина и его последствиями».
Доклад считался секретным, но буквально через несколько дней основные его положения были опубликованы в западной печати (а когда Хрущев официально заявил, что такого доклада будто бы не было, там появился полный текст его выступления) [в СССР он был полностью рассекречен лишь в конце 80-х годов]. Страна полнилась слухами, люди не знали, что и думать. В Тбилиси на третью годовщину смерти Сталина преподаватели вывели на улицы своих студентов в защиту памяти «великого земляка» (хотя грузины пострадали в ходе сталинского террора едва ли не больше всех других народов). Демонстрацию разгоняли войсками, было много убитых и раненых. После этого было решено ознакомить партийные организации и беспартийных активистов с текстом антисталинского доклада на закрытых партсобраниях (его обсуждение там не предусматривалось).
Многие на всю жизнь запомнили 1956 год – от тридцатилетнего «наркоза» сталинской пропаганды страна отходила очень болезненно («… трудно, очень трудно погасить в сердце эту великую любовь, которая так сильно укоренилась в о в с е м о р г а н и з м е»). Осторожные поначалу разговоры перерастали в жаркие споры о недавнем прошлом. Молодежь жадно прислушивалась к словам старших («Папа, как ты мог ничего не знать?»). Поколение, взрослевшее в эти годы, называло себя впоследствии «детьми ХХ съезда».
Реабилитации. Кусочки общей картины недавнего террора молодые могли восстановить из скупых рассказов возвращавшихся из лагерей. Для освобождения и реабилитации миллионов политзаключенных было создано более 90 специальных выездных комиссий, каждая из которых получила права Верховного Совета – пересматривать старые «дела» непосредственно в лагерях, выпускать на свободу, снимать судимости (в их состав обязательно входили недавно освобожденные узники ГУЛАГа – бывшие партработники). Работа их шла довольно быстро – достаточно было даже поверхностного ознакомления с документами и кратких бесед с осужденными, как вся «липа» сталинских следователей обнаруживалась со всей очевидностью. Освобожденным выдавалась небольшая денежная компенсация, справка о реабилитации, после чего папки с их «делами» вместе со всеми доносами и протоколами допросов сжигались.
Никакие репрессии не грозили ни добровольным «стукачам», ни следователям, пытавшим свои жертвы, добиваясь признаний по заведомо «липовым» обвинениям – Хрущев сказал, что если привлекать к ответственности всех, кто прямо или косвенно участвовал в преступлениях Сталина, то придется отправить в заключение больше людей, чем освободилось при реабилитациях.
Были возвращены на родину калмыки и северокавказские народы, возрождены их автономии. Окончилась официальная ссылка и для других репрессированных национальностей (советских немцев, крымских татар и др.), однако их прежние автономии не только не восстановили, но даже возвращение бывших ссыльных в родные места признано было нежелательным.
«Оттепель». За слова, за честно высказанные мысли власть перестала стирать человека в «лагерную пыль». Одного этого оказалось достаточно, чтобы потеплели, стали более доверительными отношения между людьми, чтобы разрядилась и просветлела духовная атмосфера во всем обществе. Недаром родилось тогда определение наступивших времен – «оттепель».
«За дрожащей мембраной выпрямляется раб обнаженный, исцеляется прокаженный, воскресает невинно казненный. Что случилось, не может представить: – Это я! – говорит, – Это я ведь!» [поэт Леонид Мартынов – 1954 год].
Люди (особенно молодое поколение) почувствовали, что они нужны своей стране уже не как винтики бездушной государственной машины, а как сознательные, искренние, думающие строители новой, светлой жизни. Поэтому многие из них так легко (и вполне добровольно) срывались с насиженных мест и по партийным и комсомольским призывам ехали распахивать поля в казахских степях, строить заводы и электростанции в Сибири – хотелось конкретного дела для всеобщего блага, хотелось вырваться из привычной рутины и пустопорожнего «идейного» формализма. Молодежными идеалами становились строители Иркутской и Братской ГЭС и те, кто с первого колышка начинали новые города, геологи в таежной экспедиции и молодые ученые (желательно, физики) – вольные в своем поведении ниспровергатели научных авторитетов.
На предприятиях, в учреждениях, при партийных комитетах создавались многочисленные советы, комиссии, бюро, куда люди приглашались работать на общественных началах, и где они должны были искать решения многих проблем и обговаривать будущие постановления официальных органов.
Оживились литература (особенно много стало поэзии), кино, живопись, публицистика. Именно на этой волне сказали первое свое слово писатели, режиссеры, актеры, художники, на много лет определившие лицо советского искусства (Эльдар Рязанов и Людмила Гурченко, Иннокентий Смоктуновский и Алексей Баталов, Булат Окуджава и Андрей Вознесенский и многие, многие другие – список их имен может занять не одну страницу), «второе дыхание» обрели и старые мастера.
Никто из этих людей не ставил под сомнение (по крайней мере, вслух) преимущества социализма, но «идеологическая дисциплина» падала на глазах, и оттесненная Хрущевым на вторые роли «сталинская гвардия» не без оснований видела в этом серьезную опасность для всей советской системы. Волнения, случившиеся в 1956 году в странах Восточной Европы (ГДР, Польше и особенно в Венгрии) казались грозным предзнаменованием – критика «культа личности» может быстро перерасти в открытый бунт против власти. Коммунисты сталинской школы опасались, что Хрущев «рубит сук, на котором они все сидят» и не сможет справиться с последствиями опрометчивой «десталинизации».
Последний бой «старой гвардии». Летом 1957 года против Хрущева сплоченно выступили почти все высшие руководители. Большинством голосов Президиума ЦК партии Хрущев был смещен с поста первого секретаря (во главе партии предполагалось поставить Молотова). Но этот «верхушечный» заговор провалился – срочно собранный пленум Центрального комитета поддержал Хрущева, признал решение своего Президиума незаконным и сместил с высших постов членов проигравшей «антипартийной группы» [в отличие от сталинских времен, члены «антипартийной группы», покусившиеся на власть лидера, не были казнены – они были переведены на «низовую» работу]. Весомую помощь в этот трудный момент оказал Хрущеву министр обороны Георгий Жуков. Но законы борьбы на вершине тоталитарной власти чужды проявлений благодарности – через несколько месяцев слишком самостоятельный и популярный маршал лишился своего поста и был отправлен в отставку.
Основательно были «почищены» и органы госбезопасности. Совместив должности главы партии и правительства, с конца 1957 года Хрущев мог считать себя единовластным руководителем страны с полным основанием.
В СССР руководитель партии был прежде всего «идейным вождем» – именно он определял стоящие перед народом задачи и формулировал ту единую идеологию, которая должна быть внедрена в сознание населения. Хрущев понимал роль идеологии в государстве не так, как Сталин – он не использовал ее в собственных интересах, а честно пытался ей служить. Сохранив до старости детскую веру в коммунизм, новый глава партии и государства был убежден, что эта вера, если возродить ее в народе, сможет сдвинуть горы.
Коммунистическая мечта. Перед пробуждавшимся обществом была, по сути, вновь поставлена яркая и манящая цель – построение в СССР коммунистического общества. В 1961 году ХХII съезд КПСС принял новую Программу партии, официально провозгласившую: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!». Предполагалось, сохранив достигнутые темпы экономического роста, достичь изобилия материальных благ к рубежу 80-х годов. По мысли авторов Программы, это позволило бы обеспечивать основные материальные запросы людей «по потребностям» – труд на благо общества стал бы при этом естественной внутренней моральной необходимостью для каждого человека.
Была и оборотная (и более практическая) сторона такого курса на «развернутое строительство коммунизма», – он вызвал усиление борьбы со всеми проявлениями частного интереса как с «пережитками капитализма».
После повышения закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию колхозники впервые в советской истории получили возможность жить не только приусадебными участками, но и колхозными заработками. Хрущев решил, что в новых условиях колхозникам уже ни к чему копаться на своих огородах и возиться с «единоличными» коровами – ведь это только мешает им сосредоточиться на «главной» работе в колхозе, а там, если постараться, можно заработать гораздо больше! Глава государства даже пытался лично убеждать в этом своих земляков, но его не поняли. От убеждения вскоре перешли к принуждению – снова у крестьян стали урезать приусадебные участки «под самые окошки», запрещали косить траву для личного скота даже на неудобьях и т. д. (в результате более половины крестьянских дворов вынуждены были избавиться от собственных коров). Началась борьба даже с дачами горожан – к чему эти «частнособственнические замашки», если есть дома отдыха и профсоюзные путевки!
В качестве «пережитка капитализма» новым гонениям подверглась и церковь – во второй половине 50-х годов власти снова попытались «освободить» советских людей от религиозных «предрассудков». Опять, как в первой пятилетке, начали закрывать и ломать храмы, грозить лишением родительских прав тем, кто пытался внушить своим детям веру в Бога, усилилась атеистическая пропаганда в школах.
Идеология под угрозой. Надежды на то, что «градус тепла» станет началом настоящей «весны,» не оправдывались – государственные руководители сильно опасались неконтролируемого «половодья». Прекратилось чтение антисталинского доклада Хрущева в парторганизациях, а его готовящаяся публикация была отменена. Понимая то огромное влияние, которое оказывают на умы и сердца людей все виды искусства, Хрущев начал свои знаменитые встречи с творческой интеллигенцией, где жестко и определенно поставил перед писателями, режиссерами, художниками рамки, переступать которые им было строжайше запрещено. Борьбу с «культом личности» руководство «на самотек» не пустит, – заверил всех Первый секретарь («Партия проводила и будет последовательно и твердо проводить выработанный ею ленинский курс, непримиримо выступая против любых идейных шатаний»), – и хороши лишь те «работники культуры», которые в «политике партии, в ее идеологии находят неисчерпаемый источник творческого вдохновения».
Но и в этом идеологическом нажиме не так все было просто и однозначно. После публикации в газетах грубых по форме, разносных «наставлений» интеллигенции Хрущев получил письмо, в котором подписавшаяся полным именем женщина доброжелательно, но твердо выговаривала первому лицу государства: «Вам не следовало выступать на этом совещании. Ведь Вы не специалист в области искусства … А в искусстве декретирование даже абсолютно правильных положений вредно» – попробовал бы кто-нибудь, не рискуя жизнью, дать подобный совет его предшественнику!
За публикацию за границей своего романа «Доктор Живаго» и присуждение Нобелевской премии по литературе был затравлен и исключен из Союза писателей великий поэт Борис Пастернак, но была опубликована предельно откровенная «лагерная» повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича», которую Хрущев порекомендовал прочитать всем своим соратникам и выдвинул ее на Ленинскую премию по литературе…
Все эти противоречия и колебания первого лица в государстве нарушали слаженную работу тоталитарной идеологической машины и ставили под угрозу налаженную при Сталине систему контроля над умами. Солдаты и офицеры многочисленной армии идеологических работников, лишившись четкого командования, действовали «по усмотрению» и все больше сосредотачивались на знакомом, понятном и безопасном деле – прославлении лидера (на этот раз – «дорогого Никиты Сергеевича»). Попытки создания нового «культа личности» человека, явно не подходившего на роль «мудрого вождя», раздражали народ и вредили самому Хрущеву – он стал первым советским вождем, о котором начали сочинять издевательские и пренебрежительные анекдоты.
ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА
Смена общей стратегии. Задачи, поставленные Хрущевым перед народным хозяйством, существенно отличались от сталинских. В 1954 году выразил он их вполне определенно и в присущей ему манере:
«Народ говорит нам: – Я верю вам, я воевал за это в гражданскую войну, воевал с немцами, разгромил фашизм, а все-таки скажите мне: мясо будет или нет? Молоко будет или нет? Штаны хорошие будут? Это, конечно, не идеология. Но нельзя же, чтобы все имели правильную идеологию, а без штанов ходили».
Это был фактически отказ от главного тоталитарного принципа: «Не государство для человека, а человек для государства». Будь жив Сталин, он наверняка назвал бы это «идеологической диверсией». Первостепенной целью советской власти официально провозглашалось не просто улучшение жизни людей, но и выход на первое место в мире по уровню жизни населения.
Изменилась сама идея о распространении социализма в мире: вместо расширения «зон влияния» советской империи (окончательно вымотавшей силы народа) было решено сделать СССР привлекательным для всех стран примером зажиточной и справедливой жизни.
Поставленная задача вынудила новое руководство отказаться от некоторых дорогостоящих военных проектов (так, например, была свернута большая программа создания океанского военного флота, а недостроенные крупные корабли пошли в переплавку). Была прекращена война в Корее, урегулированы спорные вопросы в Европе (советские войска ушли из Австрии, были установлены дипломатические отношения с ФРГ (Западная Германия). На родину возвратились немецкие и японские военнопленные. Начались переговоры о заключении мирного договора с Японией, на которых советское правительство выразило готовность обсуждать проблему южнокурильских островов («северных территорий»). Гонка ракетно-ядерных вооружений продолжалась, но главным направлением соперничества двух общественных систем на мировой арене советские лидеры теперь называли их мирное соревнование за лучшие условия жизни населения.
Хрущев свято верил в неограниченные возможности созданного в СССР строя. Советская экономика смогла превзойти военное производство всей Европы и обеспечить Победу – так неужели же ей не по плечу обойти Европу и Америку по производству предметов широкого потребления и продовольствия! Хрущев был убежден, что при разумном руководстве государственное хозяйство сможет сделать это гораздо быстрее и экономнее, чем свободный рынок и частный интерес.
Государственная экономика впервые должна была показать свои возможности не в чрезвычайных обстоятельствах войны или усиленной подготовки к ней, а в относительно спокойных, мирных условиях.
В середине 50-х годов в СССР, наконец, были отменены драконовские предвоенные законы об уголовном преследовании работников за самовольный уход с предприятия и нарушения трудовой дисциплины. Всех, кто отбывал срок по этим статьям, выпустили из лагерей. В конце 50-х отказались и от колхозного «крепостного права» – деревенским жителям начали выдавать паспорта. Отныне на место страха наказания и голода должны были встать «коммунистическая сознательность» и справедливая (по труду) оплата.
Сельское хозяйство: первые успехи. Первоочередной и самой важной экономической задачей, решить которую взялось новое руководство, стало производство продуктов питания. Запущенность сельского хозяйства была ужасающей – уже четверть века деревня являлась фактически внутренней колонией государства, из которой почти даром выкачивали все ресурсы, безжалостно выжимали все соки. Значительное повышение государственных закупочных цен на колхозную продукцию, прирезка земли к приусадебным участкам, снижение продналога с личных хозяйств и «прощение» прошлых долгов вызвали весьма ощутимый рост колхозного и личного производства в первые же послесталинские годы (многие колхозы увеличивали производство в 1,5 – 2 – 3 раза). И хотя рост этот начался с очень низкой отметки, но первые успехи все равно были впечатляющими
Хрущев стремился вырвать страну из полуголодного состояния в кратчайший срок, одним махом. Ему казалось, что вложения средств в старые колхозы и совхозы не дадут отдачи так быстро, как того хотелось бы. Решено было использовать мобилизационные возможности социализма и за пару лет создать буквально на голом месте новые зерновые районы на огромных площадях — там, где плодородная, никогда не паханная земля (целина) сразу и без всяких удобрений сулила большие урожаи. В Казахстан, на Урал и Алтай к севу 1954 года потянулись эшелоны с тракторами и сотнями тысяч молодых людей, мечтавших начать там новую жизнь, построить ее собственными руками. Освоение целинных земель разворачивалось почти так же, как военная операция большого масштаба. И в первые годы она действительно имела успех – уже через год Целина дала 40% общесоюзного сбора зерна.
За образец и главный ориентир в решении продовольственной проблемы взяли американское сельское хозяйство, к опыту которого советский руководитель приглядывался давно и с которым близко и подробно познакомился во время своей поездки по США в 1959 году.
Успехи американских фермеров, силами одной семьи обрабатывавших огромные площади, сравнимые по размерам с угодьями целого колхоза, поразили Хрущева. Он решил, что именно в этой области социализм должен доказать свое превосходство над капитализмом, и нацелил советское сельское хозяйство мощным рывком обогнать американское уже в ближайшие годы: «Если мы догоним США по уровню производства на душу населения мяса, масла и молока, то мы выпустим сильнейшую торпеду под капиталистические устои».
Фермеры объяснили руководителю советской державы, что главный «секрет» быстрого роста производства мяса, масла, молока заключается в том, что коров нужно хорошо кормить, а для этого следует выращивать побольше кукурузы. Хрущев вернулся домой с четким планом действий. Внедрение кукурузы походило на крупномасштабную фронтовую операцию: обкомы и райкомы, повинуясь указаниям из Москвы, заставляли колхозы засевать ею свои поля и рапортовали «наверх» о выполнении партийных приказов. На карте СССР принудительные посевы «королевы полей» наступали все дальше на север и восток.
Хрущев, как главнокомандующий, колесил по стране, поднимая моральный дух своего партийного «офицерства» и с энтузиазмом убеждая рядовых колхозников в выгодности для них самих возделывания новых культур. С газетных полос не сходили рассказы о том, как сеют, пропалывают, поливают, жнут, откармливают, доят в передовых колхозах, какие повышенные обязательства берут на себя целые области.
Кто на земле хозяин? Хрущев попытался перенести в СССР лучшие достижения мирового сельского хозяйства: высокоурожайные культуры, новейшие технологии их выращивания. Но при этом не учел, что для ведения такого хозяйства требуется и новый работник – инициативный, экономный, отдающий своему делу весь свой разум, все силы и энергию, всю душу вкладывающий в свое поле и ферму. За немногими исключениями в колхозной деревне такого работника не было.
Это не значит, что российский, украинский, белорусский или узбекский крестьянин был плохим земледельцем и животноводом – его приусадебный участок без всякой техники давал прекрасные урожаи, его личный скот был ухожен и продуктивен. Но тот же крестьянин, выходя на колхозные поля, превращался из хозяина в простого наемника, стремящегося сберечь силы и время для собственного хозяйства. И дело было даже не в уровне оплаты его «общественного» труда (которая постепенно росла) и не в появлении новых машин (которых становилось все больше), а в принципиальной без-хозяйственности колхозного производства.
Иногда настоящим хозяином колхоза мог стать «крепкий» председатель – понимающий землю, жесткий и властный с людьми, оборотистый на грани нарушения многочисленных инструкций и даже закона. Но такой руководитель процветающего (по советским меркам) колхоза был обречен всю жизнь вести изматывающую борьбу «на два фронта» – и со своими колхозниками, и с чиновниками, неусыпно контролирующими каждый его шаг и навязывающими ему указания «сверху». Поэтому большинство председателей колхозов и директоров совхозов предпочитали держаться «золотой середины» – формально выполняя начальственные приказы и, одновременно, учитывая личные интересы своих подчиненных.
Настоящим символом колхозного производства тех лет стало покорное засевание тепло- и влаголюбивой кукурузой архангельских и сибирских полей (с заранее известными местным жителям плачевными результатами). Высокоурожайная лишь при хорошем и постоянном уходе, кукуруза в СССР не всегда росла и в благоприятных климатических зонах. [Оказавшийся однажды на ее севе в Ставропольском крае американский фермер (и советчик Хрущева) Гарст метался по полю с криками, что кукурузу нельзя сеять без удобрений, и пытался остановить машины, – ему с удивлением отвечали, что про удобрения указаний не поступало…]
Менее «громким», но таким же характерным оказался пример нескольких областей центральной России, для которых на несколько лет была отменена обязательная продажа государству зерна (по госцене): колхозы тут же засеяли свои поля вместо пшеницы и ржи травами – малоурожайными, но зато и не требующими особой заботы. «Мы слишком понадеялись на вашу сознательность, на коммунистическое понимание вами своего долга», — так объяснил свою ошибку Хрущев, выступая перед сельхозруководителями этих областей, и тут же сообщил им, что план госзакупок зерна будет восстановлен, «чтобы поставить вас в условия необходимости думать и работать над тем, чтобы с каждым годом увеличивать выращивание зерна и всех других продуктов сельского хозяйства …Почему же вы не аплодируете?» – зал угрюмо молчал…
Ни «воспитательная работа» (со взрослыми-то людьми), ни неустанный контроль за всем и вся, ни внедрение передовых технологий так и не дали ожидаемых результатов, так и не смогли заменить материального интереса хозяина земли, свободного рынка и конкуренции. Получившие паспорта колхозники (в основном молодые и самые работоспособные) миллионами хлынули в города и на новые промышленные стройки. Отток рабочих рук из деревни и прибавка «едоков» в городах обострили нехватку продуктов в магазинах.
Рывок не получился. Хрущевский нажим на руководителей областей – мобилизоваться и резко увеличить сдачу государству продовольствия – возымел свое действие, но привел к новому хищническому ограблению деревни. Стремясь победно отрапортовать в Москву об итогах 1959 года, партийное чиновничество пустилось «во все тяжкие»: на бойни гнали молочных коров, племенных быков, недорощеный молодняк, под расписки изымался и тоже пускался «под нож» личный скот колхозников; деньги, выделенные на сельские школы, больницы, клубы, пускались на закупку в магазинах масла, яиц, которые по второму разу сдавались государству под видом только что произведенной в колхозах продукции.
Особенно «отличились» в этой невиданной кампании руководители Рязанской области, «перевыполнившие» государственный план 1959 года втрое (от поголовья скота в деревнях осталась лишь треть; колхозники, у которых конфисковали их коров, отказались выходить на поля и сорвали сев). Когда эта грандиозная афера раскрылась, «хозяин» области – первый секретарь обкома партии – застрелился, а для прокорма обескровленной Рязанщины пришлось завозить продовольствие из других («отставших» в этой безумной гонке) областей.
В 1962 году страну и ее руководителей ждал новый удар: на любимое детище 50-х годов – Целину – обрушилась экологическая катастрофа. Погоня за урожаями «любой ценой» быстро истощила распаханные восточные степи, ослабила их почвы до такой степени, что сильными ветрами в засуху их смело с поверхности и пыльными бурями подняло в воздух. Продуктивность этой вчерашней житницы государства снизилась на две трети. [Не обратили внимание на горький опыт тех же американцев, необдуманно распахавших свои прерии и так же лишившихся плодородного слоя несколько десятилетий назад]
В итоге к 1963 году животноводство было отброшено назад лет на семь, а у хлебных магазинов (даже в столице) выстроились огромные очереди. СССР в этом году впервые вышел на мировой рынок зерна не продавцом – покупателем. Об «изобилии» говорить уже не приходилось…
И тем не менее, по сравнению со сталинскими временами реальные изменения в снабжении страны продовольствием бросались в глаза, – поколение, родившееся в середине 50-х годов, стало в истории СССР первым, которое не знало, что такое голод.
Промышленность. Добывающая, тяжелая и оборонная промышленность продолжали играть ведущую роль в экономике, их доля за 50 – 60 годах даже еще увеличилась. Но появились и новые черты – часть их продукции теперь использовалась для улучшения жизни населения.
Промышленность стройматериалов снабжала теперь не только индустриальные «стройки пятилеток», но и поставила на конвейер производство сборных железобетонных жилых домов. В народе их за неказистый вид прозвали «хрущобами», но благодаря этим «коробкам» жилой фонд городов вырос за десятилетие почти вдвое – из бараков и коммуналок в отдельные квартиры переехали миллионы семей. Жилищная проблема так и не была решена – из деревни хлынул поток получивших паспорта колхозников – но можно себе представить, что творилось бы в городах, если бы эта строительная программа запоздала хотя бы на несколько лет!
Бурно развивавшаяся электронная промышленность производила не только военные системы, но и поставляла в магазины радиоприемники, проигрыватели и семейное чудо тех лет – первые отечественные телевизоры. Предприятия «большой химии» начали поставлять на прилавки магазинов первые синтетические ткани, стиральные порошки, изделия из пластмассы, разворачивалось производство минеральных удобрений. Машиностроение освоило выпуск первых холодильников и пылесосов, первых легковых автомобилей не для учреждений, а для обычных граждан (для «частников», как стали называть первых советских автовладельцев).
Особое внимание уделялось развитию новейших отраслей, способных технически перевооружить народное хозяйство, – тепловозы и электровозы заменили на железных дорогах паровозы, нефть и газ начали вытеснять в топливном балансе уголь, широкое строительство электростанций позволило совершить прорыв в электрификации страны, химия давала все больше новых искусственных материалов. Научные силы сосредоточились на решающих направлениях технического прогресса.
Выдающимся успехом грандиозной ракетной программы СССР стал запуск первого искусственного спутника в 1957 году и полет первого космонавта Юрия Гагарина в 1961 году.
Вооружение советской армии по-прежнему поддерживалось на самом современном уровне (хотя до равенства ядерных вооружений с США было еще далеко).
Темпы промышленного роста в первое послесталинское десятилетие по всем показателям превзошли итоги 30-х годов. Этот рост достигался в основном старыми способами – путем строительства все новых и новых предприятий, создания новых рабочих мест, заполнявшихся нетребовательными переселенцами из деревни. Природа государственной тоталитарной экономики не изменилась, но оплата труда работников была поднята над полуголодным уровнем, и впереди появилась реальная перспектива дальнейшего улучшения жизни. С 1960 года рабочий день был сокращен до 7-ми часов. Однако поворот экономики «лицом к человеку» так и не произошел: денег стало больше, но на них часто невозможно оказывалось купить самого необходимого. Большая часть ресурсов страны по-прежнему тратилась на поддержание статуса сверхдержавы.
Мирное сосуществование. ХХ съезд КПСС внес существенное изменение в стратегию СССР на мировой арене. Впервые коммунистическая партия осознала, к какой планетарной катастрофе приведет третья мировая война с массовым применением ядерного оружия. Поэтому война перестала рассматриваться как лучший способ распространения коммунистического строя, как средство окончательного сокрушения капитализма во всем мире. Впервые было заявлено, что новую мировую войну можно и нужно предотвратить – государства с разными общественными системами должны мирно сосуществовать друг с другом.
Довольно значительное сокращение надводного флота и сухопутных сил с одновременным укреплением ракетно-ядерного «щита» свидетельствовало о том, что эти заявления – не просто пропаганда, и СССР переходит к оборонительной военной стратегии. Однако при этом Хрущев подчеркивал, что мирное сосуществование не означает отказа от конфронтации: идейная борьба между социализмом и капитализмом, между двумя образами жизни объявлялась по-прежнему абсолютно непримиримой.
«Образ врага» сохранялся, по победить этого «врага» теперь предполагалось путем мирного соревнования – не силой оружия, а силой примера.
Судя по всему, Хрущев искренне верил, что это возможно. По крайней мере, в «железном занавесе», отделявшем нашу страну от Запада, в эти годы была проделана существенная брешь. В 1957 году в Москве состоялось немыслимое по прежним меркам событие – Международный фестиваль молодежи и студентов. Советские люди впервые получили возможность, не опасаясь обвинения в шпионаже, относительно свободно пообщаться с иностранцами. Не такой однобокой стала пропаганда, переставшая изображать жизнь в «странах капитала» в сплошных черных тонах. Было признано, что там есть и много такого, чему стоит поучиться (сам Хрущев то и дело приводил в пример американских фермеров, объясняя «нерадивым» колхозникам, как надо работать).
Советский лидер сменил сам стиль ведения внешней политики: в отличие от «кремлевского затворника» Сталина, Хрущев много ездил не только по стране, но и по всему миру, общался с иностранными политиками, журналистами, деловыми людьми, фермерами, рабочими. За границей он вел себя так же непосредственно, эмоционально и импульсивно, как и дома.
Десталинизация в СССР и провозглашение принципа мирного сосуществования сильно испортили отношения СССР с одним из его главных стратегических союзников – коммунистическим Китаем, вождь которого Мао Цзэдун открыто заявлял о желательности ядерной войны между сверхдержавами (СССР и США) и был готов такое столкновение спровоцировать. Огромная советская экономическая помощь Китаю была постепенно свернута, порвались практически все связи между двумя странами, а советско-китайская граница стала напоминать прифронтовую зону.
Если по представлениям Мао Цзэдуна СССР был слишком уступчив по отношению к «империалистам», то для жителей США и Западной Европы он по-прежнему оставался угрозой, непредсказуемым и опасным партнером. Широковещательные «мирные инициативы» Хрущева типа предложений о немедленном и всеобщем разоружении не могли рассматриваться всерьез, а реальные шаги навстречу Западу с конца 50-х годов прекратились. Мирный договор с Японией так и остался неподписанным; в отношениях с США «потепление» сменилось новым «похолоданием», особенно после того, как уважаемого Хрущевым Эйзенхауэра (боевой союзник!) сменил «молодой и неопытный» Джон Кеннеди.
Кажущейся слабостью нового американского президента советский лидер решил воспользоваться для того, чтобы решить, наконец, больной вопрос о Западном Берлине и избавить ГДР от этого «окна в Европу», через которое сотни тысяч восточных немцев ежегодно бежали на Запад. Во время «берлинского кризиса» 1961 года дело дошло до того, что советские и американские танки у пограничного блокпоста в центре Берлина с наведенными пушками угрожающе ревели друг на друга заведенными моторами… Советские граждане об этом не знали и спали спокойно, но в остальном мире люди пережили момент острого страха – человечество, казалось, стоит на грани новой глобальной войны. Воевать СССР не собирался, и танкистам дали приказ заглушить моторы. Но от готовности демонстрировать силу и «пугать» своих идеологических противников Хрущев не отказался и после этого.
СССР выходит в «третий мир». В 50-е годы активно пошел давно ожидавшийся всеми коммунистами процесс национально-освободительного движения в колониальных империях. В Азии, Африке появились десятки новых, молодых государств; многие из них активно стремились выйти из-под влияния бывших колонизаторов – западных индустриальных держав. Хрущев искренне верил в то, что СССР может и должен им в этом помочь и направить как можно больше народов по пути строительства социализма. Поиски друзей в «третьем мире» стали одним из важнейших направлений внешней политики СССР.
В отличие от Сталина, который не доверял независимым от Москвы коммунистам и жестко требовал в обмен на свою помощь полного подчинения, Хрущев готов был помогать всем, кто демонстрировал «антиимпериалистические» взгляды и желание «строить социализм» (или, как минимум, «идти по некапиталистическому пути»). Многие советские люди, и в их числе глава государства, радовались мирному и ненасильственному расширению «лагеря социализма» и видели в этом доказательство правоты коммунистических идей. Внешняя политика СССР приобрела поистине мировой, глобальный размах.
Тесные связи устанавливались со странами, никогда прежде не входившими в сферу ни российской, ни советской внешней политики – например, с Индией, Индонезией, Египтом.
Разграничения «зон влияния» (как в Европе) между СССР и державами Запада в районах «третьего мира» не было – там шло постоянное соперничество за влияние на правителей освободившихся стран. Стоило оно довольно дорого: Египет, например, за счет советской помощи строил половину своих новых предприятий, Индия – 15% (не считая крупных поставок военной техники).
Настоящим «подарком судьбы» для СССР стала партизанская революция на Кубе, принявшая антиамериканский характер.
Ее романтический лидер Фидель Кастро национализировал собственность американских граждан на своем острове и был «наказан» экономической блокадой. Правительство США наложило запрет на ввоз кубинского сахара и табака, тем самым обрекая Кубу на жестокие лишения – раньше почти все необходимое для жизни страна импортировала в обмен на эти товары. Единственным выходом из положения было обращение к СССР, о котором кубинские революционеры в то время почти ничего не знали, и были потрясены оказанным им приемом. В обмен на обещание строить на Кубе социализм Кастро получил все, о чем только мог мечтать, – сбыт сахара по нерыночной цене, поставки оружия, помощь советских военных и технических специалистов – и никакого торга, никаких разговоров о деньгах!
Куба превратилась в базу для национальных и коммунистических движений (в том числе и партизанских) во всей Латинской Америке прямо «под боком» у США.
Карибский кризис. Советское руководство не смогло удержаться от соблазна использовать выгоднейшее стратегическое положение «острова Свободы» для достижения военного преимущества над своим главным соперником. В 1962 году на Кубу стали тайно завозить и устанавливать на боевое дежурство советские ракеты с ядерными боеголовками, способные за несколько минут после пуска поразить любой город США в восточной части страны. Обнаружение их стартовых установок вызвало в США переполох – американские боевые корабли блокировали остров и начали досматривать все суда, направлявшиеся в кубинские порты. Страшно было представить, к каким последствиям привело бы задержание ими советских судов с ядерными ракетами на борту – весь мир замер в смертельной тревоге, готовясь к атомной катастрофе.
Разум с обеих сторон возобладал буквально в последний момент: Хрущев согласился на вывод с Кубы советских ракет, а президент США Кеннеди дал обязательство не нападать на Кубу и в дальнейшем ликвидировать американские ракетные базы в Турции.
Надежду на дальнейшую разрядку международной напряженности давал и заключенный в следующем году договор о запрещении испытательных ядерных взрывов в атмосфере, под водой и в космосе. Мир, заглянувший в дни «карибского кризиса» в пропасть, вздохнул с облегчением.
Внешняя политика Хрущева была такой же малопредсказуемой и внутренне противоречивой, как и вся его деятельность. Человек, считавший себя главным на планете «борцом за мир», дважды поставил человечество на грань ядерной катастрофы. В результате США увеличили свои военные расходы, и начался новый виток гонки вооружений. Спокойствия и безопасности в мире не прибавилось.
Административные «перетряски». Хрущев был уверен, что созданный в стране общественный строй обладает неограниченными возможностями для своего развития и улучшения жизни людей, а единственным, что сдерживало его всесторонний рост, он считал неправильное руководство. Главный вопрос, следовательно, заключался в том, чтобы научиться управлять этим обществом. Поэтому основной заботой советского лидера был поиск наилучших вариантов организации чиновничьего аппарата партии и государства. Все время правления Хрущева отмечено постоянными реорганизациями системы управления и бесконечными перетасовками руководящих кадров.
Еще в 1954 году по стране было ликвидировано несколько тысяч «лишних» трестов, главков и всякого рода управленческих контор, втрое сокращена колоссальная отчетность, подсчитываемая и предоставляемая «наверх» миллионами управленцев. Новые органы управления создавались в союзных республиках и автономиях, в подчинение которых передавались те или иные предприятия (чтобы через какое-то время вновь сменить «хозяина»). В сельском хозяйстве появлялись новые органы, контролирующие выращивание в колхозах и совхозах отдельных культур.
В 1957 году отраслевые министерства были вообще упразднены, а управление экономикой перешло к территориальным органам – «советам народного хозяйства» (совнархозам), управлявшим предприятиями нескольких областей. Это больно ударило по московской бюрократии, но и на местах породило бесконечные склоки – обкомы партии отстаивали свое право контролировать все и вся в своих областях. В столице создавались госкомитеты по отраслям, вбиравшие в себя все научные институты и все большее количество предприятий. Если учесть, что над всем этим стояли еще и отраслевые отделы ЦК КПСС, то можно себе представить, как все перепуталось в управлении народным хозяйством!
Мало того – Хрущев настоял на разделении партийного аппарата в областях на «промышленную» и «сельскохозяйственную» части (каждая со своим обкомом), а вслед за этим повсюду стали «делиться» и советские, профсоюзные, комсомольские организации. Одновременно начали воссоздаваться и центральные хозяйственные органы. И конца всем этим реорганизациям видно не было…
Особенно сильно задело партийно-государственную элиту введение в Устав партии правила, по которому руководящие должности можно стало занимать только определенный ограниченный срок, после чего «насиженное» место надо было уступать новому человеку. Эти поправки к Уставу были, естественно, приняты съездом КПСС – но только в силу традиционной дисциплины делегатов, обязанных голосовать за предложения Первого секретаря единогласно. Оппозиция Хрущеву со стороны выдвинутого им же нового поколения руководителей нарастала.
Отставка Хрущева. К 1964 году недовольство деятельностью Хрущева стало в стране едва ли не всеобщим. Глухо роптало ограбленное в очередной раз крестьянство. Симпатии интеллигенции к послесталинскому реформатору после его грубых «разносов» сменились враждебной отчужденностью. Перебои с хлебом в городах после всех широковещательных заявлений («догоним и перегоним!») вызывали горечь и насмешки. Сокращение армии привело к тому, что «на гражданке» без военных пенсий и сносного жилья оказались десятки тысяч офицеров.
Серьезным был конфликт с официальной опорой партии – с рабочим классом. В 1962 году повышение закупочных цен на колхозно-совхозную продукцию государство компенсировало повышением цен на масло и мясо в магазинах. По времени это совпало с понижением расценок на заводах, что в ряде городов вызвало забастовки, сопровождавшиеся столкновениями с милицией. Пятитысячная рабочая демонстрация в Новочеркасске была расстреляна войсками, было много жертв.
В 1964 году ряд высших руководителей партии, правительства, армии и госбезопасности решились отстранить Хрущева от власти. Несколько месяцев они осторожно прощупывали отношение к этому республиканских и областных деятелей – и практически во всех случаях получали «добро». В октябре, воспользовавшись отъездом Хрущева в отпуск, они за спиной у него собрали пленум ЦК и срочно вызвали на него «дорогого Никиту Сергеевича». Заранее был заготовлен длинный список обвинений: пренебрежение «коллективным руководством», организация собственного «культа личности» взамен осужденного сталинского, ошибки во внешней политике… Сразу почувствовав безнадежность своего положения, Хрущев бороться за власть не стал и подписал заявление об уходе на пенсию «по состоянию здоровья». Первым секретарем ЦК КПСС был избран Леонид Ильич Брежнев.
Бурное и противоречивое «великое десятилетие» закончилось.
Читать дальше:
Георгий Федотов, философ, историк, 1943 год:
«Страшнее всего проиграть мир после всех нечеловеческих усилий и жертв»
ПОПЫТКИ ЭКСПАНСИИ
Всеволод Вишневский, писатель, дневниковая запись, апрель 1941 года:
«С англо-американским миром – враги второй очереди – возможен компромисс, лет на 10–15. Это нужный нам срок для развертывания огромной экономической и оборонной мощи, постройки Великого флота и пр.»
Вячеслав Молотов, 1975 год:
«Сво ю задачу как министр иностранных дел я видел в том, чтобы как можно больше расширить пределы нашего отечества. И кажется, мы со Сталиным неплохо справились с этой задачей»;
ю задачу как министр иностранных дел я видел в том, чтобы как можно больше расширить пределы нашего отечества. И кажется, мы со Сталиным неплохо справились с этой задачей»;
«Мы за мирное сосуществование, если понимать его в том смысле, что мы за мир. Мы всячески должны стоять за мир, мы – самая миролюбивая страна, – постольку, поскольку это не мешает дальнейшему усилению роста социализма…»
Иосиф Сталин, из беседы с американской рабочей делегацией, 1927 год:
«…Будут складываться два центра мирового масштаба: центр социалистический, стягивающий к себе страны, тяготеющие к социализму, и центр капиталистический, стягивающий к себе страны, тяготеющие к капитализму. Борьба этих двух лагерей решит судьбу капитализма и социализма во всем мире»
Иосиф Сталин, в разговоре с югославским коммунистом Милованом Джиласом, декабрь 1944 года:
«Кризис капитализма проявился в разделении капиталистов на две фракции: одна – фашистская, другая – демократическая. Получился союз между нами и демократической фракцией капиталистов, потому что последняя была заинтересована не допустить господство Гитлера… Мы теперь с одной фракцией капиталистов против другой, а в будущем и против этой фракции капиталистов»
Роберт Конквест, английский историк, 1990 год:
«Мир раскололся на две противостоящие и враждебные друг другу политические силы…
В такой ситуации в действиях Сталина явственно обозначилось стремление осуществить в кратчайшие сроки тотальную психологическую мобилизацию общества, возродить в населении… дух защитников осажденной крепости. …
Поэтому, чтобы пресечь дальнейшее всенародное «почивание на лаврах», Сталин уже в конце 1946 года отменил празднование Победы над Германией, сделав выходным вместо 9 мая новогодний день 1 января. К тому же, как всегда в периоды ужесточения режима начал настраиваться на большие обороты механизм репрессивной машины…
Сталин, подобно опытному шахматисту, заранее детально отрабатывающему план очередной партии и намечающему комбинации с использованием ключевых фигур, резонно полагал, что с «закручиванием гаек» в духовной сфере успешней справится такой опытный партфункционер гуманитарного склада, как Жданов. И вождь не ошибся… Фанатично убежденный в государственной важности порученной ему миссии, он, по заслуживающему доверия свидетельству, рассуждал примерно следующим образом: «Положение достаточно серьезное и сложное. Намерение разбить нас на поле брани провалилось. Теперь империализм будет все настойчивей разворачивать против нас идеологическое наступление… И совсем неуместно маниловское прекраснодушие: мы-де победители, нам все теперь нипочем… Наши люди проявили столько самопожертвования и героизма, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Они хотят теперь хорошо жить. Миллионы побывали за границей, во многих странах. Они видели не только плохое, но кое-что такое, что заставило их задуматься. А многое из виденного преломилось в головах неправильно, односторонне… среди части интеллигенции, и не только интеллигенции, бродят такие настроения: пропади все пропадом, всякая политика. Хотим просто хорошо жить. Зарабатывать. Свободно дышать. С удовольствием отдыхать… Настроения аполитичности, безыдейности очень опасны для судеб нашей страны. Они ведут нас в трясину… Эти настроения становятся еще опаснее, когда дополняются угодничеством перед Западом: «Ах, Запад!», «Ах, демократия!», «Вот это литература!», «Вот это урны на улицах!» Какой стыд, какое унижение национального достоинства!»;
«Если бы не было сталинского «осажденного» менталитета, даже скорее менталитета вылазок, когда вы вырываетесь из осады и атакуете других, то «холодной войны» не было бы – да и можно ли представить себе «холодную войну» между, скажем, Францией и Англией? Были бы конфликты, а это нечто совсем другое…
…Если бы Сталин умер в 1945-м.., то я думаю, что людишкам типа Молотова было бы очень трудно сохранить контроль над населением, да еще когда в народе – а так тогда было – существовала большая тяга к демократизации. В таком случае «холодной войны» не было бы. У России были законные интересы в установлении дружественных отношений со своими соседями. Но иметь таких соседей, как Финляндия, – это одно, а попытки, скажем, убить Тито – совсем другое…»
Вячеслав Молотов, из книги «Сто сорок бесед с Молотовым. Из дневника Ф. Чуева»:
«Понадобилась нам после войны Ливия. Сталин говорит: «Давай, нажимай!»… Аргументировать было трудно. На одном из заседаний совещания министров иностранных дел я заявил о том, что в Ливии возникло национально-освободительное движение. Но оно пока еще слабенькое, мы хотим поддержать его и построить там свою военную базу»;
«Сталин рассуждал так: «Первая мировая война вырвала одну страну из капиталистического рабства. Вторая мировая создала социалистическую систему, а третья навсегда покончит с империализмом»;
«В то же время Азербайджан претендовал – увеличить их республику почти в два раза за счет Ирана. Начали мы щупать – никто не поддерживает. У нас была попытка, кроме этого, потребовать район, примыкающий к Батуми, потому что в этом турецком районе было когда-то грузинское население… И армянам хотели Арарат отдать. Выступать с такими требованиями тогда было трудно… Но попугать – попугали крепко»
Александр Солженицын, писатель:
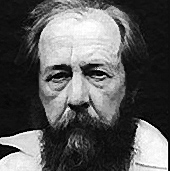 «…Во внешней политике – о! вот тут коммунисты не повторили ни единого промаха и ляпа царской дипломатии… Коммунистические вожди всегда знали верно, чт`о им нужно, и каждое действие направлялось всегда и только к этой полезной цели – никогда ни единого шага великодушного или бескорыстного; и каждый шаг верно смечен, со всем цинизмом, жестокостью и проницательностью в оценке противников. Впервые за долгий ход истории российской дипломатия советская была находчива, неотступчива, цепка, бессовестна – и всегда превосходила и побивала западную. … И таким привлекательным идеологическим оперением была советская дипломатия снабжена, что вызывала восторженное сочувствие у западного же передового общества, отчего потуплялись и западные дипломаты, с трудом натягивая аргументы»
«…Во внешней политике – о! вот тут коммунисты не повторили ни единого промаха и ляпа царской дипломатии… Коммунистические вожди всегда знали верно, чт`о им нужно, и каждое действие направлялось всегда и только к этой полезной цели – никогда ни единого шага великодушного или бескорыстного; и каждый шаг верно смечен, со всем цинизмом, жестокостью и проницательностью в оценке противников. Впервые за долгий ход истории российской дипломатия советская была находчива, неотступчива, цепка, бессовестна – и всегда превосходила и побивала западную. … И таким привлекательным идеологическим оперением была советская дипломатия снабжена, что вызывала восторженное сочувствие у западного же передового общества, отчего потуплялись и западные дипломаты, с трудом натягивая аргументы»
Из отчета комиссии ЦК ВКП(б) по проверке деятельности Совинформбюро, 1946 год:
«Иногда в статьях, посылаемых Совинформбюро, советская действительность дискредитируется в глазах зарубежных читателей. В ряде статей о колхозах авторы расписывают как величайшее достижение урожай зерновых в 9–10 центнеров с га. Статьи эти направляются в США и Канаду, где урожай зерновых обычно в 2–3 раза выше… В статье А. Розовского «Советский крестьянин учится» рассматривается как большое достижение факт подготовки в СССР за год 7500 шоферов для колхозов: эта цифра ничтожна по сравнению с количеством шоферов, работающих в сельском хозяйстве США, куда статья Розовского направлена. Там же, как бы в издевку над советским крестьянством, утверждается, что «сотнями тысяч исчисляется количество крестьян, обучающихся… обрабатывать почву, выращивать высокие урожаи, разводить домашний скот и птицу»
Георгий Зарубин, посол СССР в Лондоне, о впечатлениях от советских фотовыставок за рубежом, 1946 год:
«Мы хотим показать нашу механизацию сельского хозяйства. Например, на поле показывается трактор и молотилка, а вокруг молотилки и трактора я насчитал 42 человека. Англичане, когда смотрят, спрашивают, что делают эти 42 человека, когда вы говорите относительно механизации. Англичане говорят, что наш фермер справляется один со своей женой. Получается обратная реакция…»
Роберт Конквест, английский историк:
«…На Западе «холодная война» велась Советским Союзом с помощью интенсивной пропагандистской кампании… Это была «кампания мира», в которой не было ничего мирного. (Одно из воззваний в защиту мира подписала вся северокорейская армия перед нападением на Юг…)»
Из книги «Сто сорок бесед с Молотовым. Из дневника Ф. Чуева»:
«Рассказываю, как вместе с генералом армии И. Г. Павловским, недавним Главкомом сухопутных войск, был на Чукотке. Там до сих пор стоят казармы, где в 1946 г. располагалась 14-я десантная армия под командованием генерала Олешева. Армия имела стратегическую задачу: если американцы совершат на нас атомное нападение, она высаживается на Аляску, 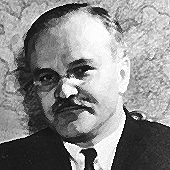 идет по побережью и развивает наступление на США. Сталин поставил задачу.
идет по побережью и развивает наступление на США. Сталин поставил задачу.
– Да, Аляску неплохо бы вернуть, – констатирует Молотов.
– А мысли такие были?
– Были, конечно, – соглашается Молотов. – Еще время, по-моему, не пришло таким задачам… США – самая удобная страна для социализма. Коммунизм там наступит быстрее, чем в других странах»
Борис Ефимов, художник-карикатурист, из воспоминаний о 1947 годе:
«Мы вот почему вас побеспокоили, – начал Жданов. – Может быть, вы обратили внимание на газетные сообщения о намечающемся военном проникновении американцев в Арктику? 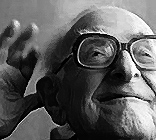 Они стягивают туда большие воинские силы под тем предлогом, что из Арктики им угрожает «русская опасность». Товарищ Сталин сказал, что это дело надо бить смехом. Товарищ Сталин вспомнил о вас и просил поговорить, не нарисуете ли вы на эту тему карикатуру…
Они стягивают туда большие воинские силы под тем предлогом, что из Арктики им угрожает «русская опасность». Товарищ Сталин сказал, что это дело надо бить смехом. Товарищ Сталин вспомнил о вас и просил поговорить, не нарисуете ли вы на эту тему карикатуру…
Жданов продолжал:
– Товарищ Сталин так примерно представляет себе этот рисунок: огромная американская военная армада во главе с генералом Эйзенхауэром рвется в Арктику. Тут же стоит простой рядовой американец и спрашивает: «В чем дело, генерал? Почему такая бурная военная активность?» А Эйзенхауэр отвечает: «Разве вы не видите, что отсюда нам грозит русская опасность?»
На другой день я с утра уселся за стол. Примерно к трем часам дня рисунок в карандаше был готов. И увешанный оружием Эйзенхауэр на «виллисе» с перископом, и идущие за ним танки и бронетранспортеры с грозно нацеленными орудиями, и «рядовой американец». Потом я взялся за «русскую угрозу», изобразив ее в виде крайне удивленного военным нашествием эскимоса.
В эту минуту зазвонил телефон. Я снял трубку.
– Это товарищ Ефимов? Ждите у телефона. С вами будет говорить товарищ Сталин.
Я встал.
После довольно продолжительной паузы и легкого покашливания в трубке послышался глуховатый голос, который я последний раз слышал по радио 3 июля 1941 года.
– С вами говорил вчера товарищ Жданов по поводу одной сатиры. Вы понимаете, о чем я говорю?
– Понимаю, товарищ Сталин.
– Вы там изображаете одну персону. Вы понимаете, о ком я говорю?
– Понимаю, товарищ Сталин.
– Так вот, надо так изобразить, чтобы эта личность была вооружена, как говорится, до зубов. Пушки там разные… Самолеты, танки… Понятно?
– Понятно, товарищ Сталин.
– Когда мы можем получить эту штуку? – спросил Сталин.
– Мне говорил товарищ Жданов… – начал я.
– Мы хотели бы получить ее сегодня. КАРИКАТУРА
Надо сказать, что на этом интерес хозяина к политической сатире не иссяк. В «Правде» было потом напечатано еще несколько карикатур, нарисованных мною по его заданию»
Виталий Лельчук, историк:
«Если бы Черчилль задержал на год открытие второго фронта на севере Франции, Красная Армия дошла бы до Франции», – сказал Сталин лидеру французской компартии М. Торезу в беседе с участием Молотова и Суслова. …
И далее: «Торез говорит, что он может подтвердить товарищу Сталину: французский народ с энтузиазмом приветствовал бы Красную Армию.
Сталин: В таком случае картина была бы совершенно другой».
Расчувствовавшись, Торез признался главному большевику мира: «Я, хотя и француз, но в душе советский гражданин». Беседа проходила 18 ноября 1947 г. Генеральный секретарь ФКП занимал в то время пост заместителя председателя Совета министров Франции. Это не помешало ему сообщить кремлевским руководителям о наличии у французских коммунистов замаскированных складов оружия, боеприпасов и подпольных радиостанций для связи с Москвой. Сталин, в свою очередь, подтвердил возможность поставки оружия.
«Мы все коммунисты, и этим все сказано». Так со свойственной ему лапидарностью «вождь всех народов» выразил суть и дух беседы, считавшейся государственной тайной почти полвека»
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЗАПАДА
Георгий Федотов, философ, историк, 1943 год:
«Страшнее всего проиграть мир после всех нечеловеческих усилий и жертв. Проиграть мир после победы значит очутиться опять лицом к лицу с хаосом, как после 1918 года, не справиться с демонами, разбуженными войной, и беспомощно – и уже безнадежно – плыть по течению к конечной гибели»
Генерал Антон Деникин, 1946 год:
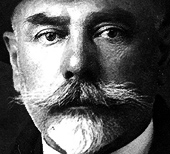 «Решительно ничто жизненным интересам России не угрожало бы, если бы правительство ее вело честную и действительно миролюбивую политику. Между тем большевизм толкает все державы на край пропасти, и, схваченные наконец за горло, они подымутся против него. Вот тогда страна наша действительно станет перед небывалой еще в ее истории опасностью. Тогда заговорят все недруги и советов… и России. Тогда со всех сторон начнутся посягательства на жизненные интересы России, на целостность и на само бытие ее»
«Решительно ничто жизненным интересам России не угрожало бы, если бы правительство ее вело честную и действительно миролюбивую политику. Между тем большевизм толкает все державы на край пропасти, и, схваченные наконец за горло, они подымутся против него. Вот тогда страна наша действительно станет перед небывалой еще в ее истории опасностью. Тогда заговорят все недруги и советов… и России. Тогда со всех сторон начнутся посягательства на жизненные интересы России, на целостность и на само бытие ее»
Из речи Уинстона Черчилля в Фултоне 5 марта 1946 год:
«В любой стране ни один человек не спит хуже от того, что эти сведения, метод и сырье для создания этой бомбы в настоящее время в основном находятся в американских руках. Я не думаю, чтобы мы все могли бы так спокойно спать, если бы положение изменилось и какое-либо коммунистическое или неофашистское государство монополизировало в настоящее время эти ужасные сведения. Один страх перед ними мог быть легко использован для навязывания тоталитарных систем в свободном демократическом мире с последствиями, приводящими в ужас человеческое воображение. Бог пожелал, чтобы этого не случилось, и у нас, по крайней мере, есть передышка перед тем, как эта опасность станет перед нами. …
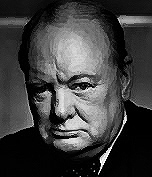 …Я подхожу к кульминационному пункту того, что я приехал сюда высказать. Никакое надежное предотвращение войны… не будет достигнуто без того, что я назвал братской ассоциацией народов, говорящих на английском языке. Это означает особые отношения между Британским содружеством и империей, с одной стороны, и Соединенными Штатами – с другой. Сейчас не время говорить общие фразы. Я осмелюсь быть точным. Братская ассоциация требует не только растущей дружбы и взаимопонимания между нашими обширными и родственными системами общества, но и сохранение близких отношений между нашими военными советниками, проведения совместного изучения возможных опасностей, однотипности оружия и учебных пособий, а также обмен офицерами и слушателями в колледжах. Это должно сопровождаться сохранением нынешних условий… совместного использования всех военно-морских и авиационных баз, принадлежащих обеим странам, во всем мире. …
…Я подхожу к кульминационному пункту того, что я приехал сюда высказать. Никакое надежное предотвращение войны… не будет достигнуто без того, что я назвал братской ассоциацией народов, говорящих на английском языке. Это означает особые отношения между Британским содружеством и империей, с одной стороны, и Соединенными Штатами – с другой. Сейчас не время говорить общие фразы. Я осмелюсь быть точным. Братская ассоциация требует не только растущей дружбы и взаимопонимания между нашими обширными и родственными системами общества, но и сохранение близких отношений между нашими военными советниками, проведения совместного изучения возможных опасностей, однотипности оружия и учебных пособий, а также обмен офицерами и слушателями в колледжах. Это должно сопровождаться сохранением нынешних условий… совместного использования всех военно-морских и авиационных баз, принадлежащих обеим странам, во всем мире. …
Тень пала на те поля, которые еще совсем недавно были освещены победой союзников. Никто не знает, что Советская Россия и ее коммунистическая международная организация намереваются сделать в ближайшем будущем или каковы границы, если таковые существуют, их экспансионистских тенденций и стремлением к прозелитизму. Я глубоко восхищаюсь и чту доблестный русский народ и моего товарища военного времени маршала Сталина. Англия и эта страна, несомненно, тоже относятся сочувственно и благожелательно ко всем народам России, и они полны решимости, несмотря на многочисленные разногласия и неудачи, установить прочную дружбу. Мы понимаем, что русские должны чувствовать себя в безопасности на своих западных границах от какого-либо возобновления германской агрессии. Мы приветствуем занятие Россией полагающегося ей места среди руководящих наций мира. … Однако моя обязанность заключается в том, чтобы представить вам некоторые факты о нынешнем положении в Европе.
От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике железная завеса спустилась на континент. За этой линией хранятся все сокровища древних государств Центральной и Восточной Европы. Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, София – все эти знаменитые города и население в их районах находятся в советской сфере и все подчиняются в той или иной форме не только советскому влиянию, но и в значительной степени увеличивающемуся контролю Москвы. Только Афины с их бессмертной славой свободны решать свое будущее на выборах под наблюдением англичан, американцев и французов. Польское правительство, находящееся под господством русских, поощрялось к огромным и несправедливым посягательствам на Германию. Имеет место массовое изгнание миллионов немцев в масштабах, которые мы, к сожалению, не могли вообразить.
Коммунистические партии, которые были очень незначительны во всех этих восточных государствах Европы, достигли исключительной силы, намного превосходящей их численность, и стремятся повсюду установить тоталитарный контроль. Полицейские правительства превалируют почти во всех этих странах, и до настоящего времени, за исключением Чехословакии, в них не существует никакой подлинной демократии. Турция и Персия глубоко встревожены и обеспокоены претензиями, предъявляемыми им, и давлением, которое осуществляется московским правительством.
Русские в Берлине пытаются создать квазикоммунистическую партию в своей оккупационной зоне в Германии посредством предоставления специальных привилегий левому крылу германских лидеров… Какие бы выводы ни делались из этих фактов – а это действительно факты – несомненно, это не освобожденная Европа, ради которой мы боролись. Это также не Европа, которая содержит основы прочного мира. Безопасность всего мира требует единства в Европе, от которого ни одну страну не надо отталкивать навсегда…
…В значительном большинстве стран, отстоящих далеко от русских границ и разбросанных по всему миру, созданы коммунистические пятые колонны, которые действуют в полном единении и абсолютном повиновении указаниям, получаемым из Коммунистического центра. За исключением Британского содружества наций и США, где коммунизм находится в зачаточном состоянии, компартии, или пятые колонны, представляют собой возрастающую угрозу и опасность для христианской цивилизации…
Я отгоняю от себя мысль, что новая война неизбежна или, более того, что новая война нависла. Я говорю теперь об этом потому, что я уверен, что наше счастье находится в наших собственных руках и что мы в силах спасти будущее. Я считаю своей обязанностью высказаться в настоящее время, когда мне предоставилась возможность. Я не верю в то, что Советская Россия хочет войны. Она хочет плодов войны и безграничного распространения своей силы и своих доктрин…
Русские больше всего восхищаются силой, и нет ничего такого, к чему бы они питали меньше уважения, чем военная слабость. По этой причине наша старая доктрина равновесия сил является несостоятельной. Мы не можем позволить себе полагаться на незначительный перевес в силах, создавая тем самым соблазн для пробы сил…»
Иосиф Сталин, из ответов на вопросы газеты «Правда», 13 марта 1946 года:
 «По сути дела г. Черчилль стоит теперь на позиции поджигателей войны. И г. Черчилль здесь не одинок, – у него имеются друзья не только в Англии, но и в Соединенных Штатах Америки.
«По сути дела г. Черчилль стоит теперь на позиции поджигателей войны. И г. Черчилль здесь не одинок, – у него имеются друзья не только в Англии, но и в Соединенных Штатах Америки.
Следует отметить, что г. Черчилль и его друзья поразительно напоминают в этом отношении Гитлера и его друзей. …
По сути дела г. Черчилль и его друзья в Англии и США предъявляют нациям, не говорящим на английском языке, нечто вроде ультиматума: признайте наше господство добровольно, и тогда все будет в порядке, – в противном случае неизбежна война.
Но нации проливали кровь в течение пяти лет жестокой войны ради свободы и независимости своих стран, а не ради того, чтобы заменить гитлеров господством черчиллей. …
Несомненно, что установка г. Черчилля есть установка на войну, призыв к войне с СССР»
Из речи Гарри Трумэна перед Конгрессом США 12 марта 1947 года:
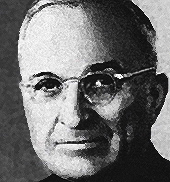 «Серьезность ситуации, перед лицом которой сегодня стоит мир, делает необходимым мое появление перед объединенной сессией Конгресса. Внешняя политика и национальная безопасность этой страны переплелись.
«Серьезность ситуации, перед лицом которой сегодня стоит мир, делает необходимым мое появление перед объединенной сессией Конгресса. Внешняя политика и национальная безопасность этой страны переплелись.
…Самому существованию греческого государства сегодня угрожает террористическая активность нескольких тысяч вооруженных людей, возглавляемых коммунистами, которые открыто не подчиняются власти правительства в ряде районов, особенно вдоль северных границ. … Греции необходима поддержка, если ей суждено стать независимой демократической страной, обладающей чувством собственного достоинства. Соединенные Штаты должны оказать такую поддержку. … Нет другой страны, к которой демократическая Греция могла бы обратиться. …
Я осознаю, что в случае предоставления поддержки Греции и Турции со стороны Соединенных Штатов могут возникнуть проблемы из–за двусмысленности ситуации. Я бы хотел обсудить их здесь и сейчас вместе с вами. …
Над народами ряда стран мира недавно помимо их воли были установлены тоталитарные режимы. … В настоящее время в мировой истории почти каждая нация должна выбирать между альтернативными путями развития. Слишком часто выбор не является свободным.
Первый путь базируется на воле большинства и отличается институтами свободы, представительным правительством, свободными выборами, гарантиями индивидуальной свободы, свободой слова и религии, а также отсутствием политического угнетения.
Второй путь базируется на воле меньшинства, насильственно установленной над большинством. Он полагается на террор и угнетение, контролируемые радио и прессу, подтасовку выборов и подавление личных свобод.
Я верю, что именно политика Соединенных Штатов должна поддержать свободные народы, которые сопротивляются попыткам подчинения со стороны вооруженного меньшинства или внешнему воздействию. Я верю, что мы должны помогать свободным нациям строить их судьбы на собственных жизненных путях. Я верю, что наша помощь должна быть преимущественно экономической и финансовой…
Достаточно лишь мельком взглянуть на карту, чтобы понять, что выживание и целостность греческой нации имеет огромное значение в более широком масштабе. Если Греция попадет под влияние воинствующего меньшинства, у ее соседа, Турции, будут немедленные и тяжелые последствия. Смятение и беспорядок могут широко распространиться по всему Среднему Востоку. Более того, исчезновение Греции как независимого государства будет иметь глубокие последствия в тех странах Европы, где народы с великим трудом борются за укрепление своей свободы и независимости… Если эти страны, которые так долго боролись против подавляющего преимущества врага, потеряют свою победу, потребовавшую столько жертв, это будет неописуемой трагедией. Разрушение институтов свободы и утеря независимости будут гибельны не только для них, но и для всего мира. Потеря духа и, возможно, неудачи, будут быстро распространяться в большинстве соседних стран… Мы должны предпринять немедленные и решительные меры. Поэтому я прошу Конгресс обеспечить своим влиянием поддержку Греции и Турции в размере 400 миллионов долларов на период до 30 июня 1948 года.
В дополнение к фондам, я прошу Конгресс определить точное число американских гражданских и военных лиц, направляемых в Грецию и Турцию для поддержки процессов реконструкции, проходящих в этих странах, а также в целях наблюдения за использованием предоставляемой финансовой и материальной поддержки. … Если дополнительные фонды или власть будут необходимы в целях, указанных в этом сообщении, я, не колеблясь, обрисую ситуацию Конгрессу. …
Дело, которое мы начинаем, очень серьезное. Я не стал бы рекомендовать начинать его, если бы альтернатива не была гораздо более серьезна. Соединенные Штаты пожертвовали 341 миллиард долларов на победу во второй мировой войне. Это – наш вклад в свободу и мир на планете. … Мы все чувствуем, что мы должны сохранить его и убедиться, что он был не напрасен. Семена тоталитарных режимов взращены страданием и нуждой. Они взошли и выросли во вредной почве бедности и раздора. Они расцвели пышным цветом, когда надежда людей на лучшую жизнь умерла. Мы должны возродить эту надежду. Свободные люди мира ищут у нас поддержки для утверждения своих свобод. Если мы будем нерешительным лидером, мы можем подвергнуть опасности мир на планете – мы точно подвергнем опасности благополучие нашей нации».
Георгий Федотов, философ, историк, 1947 год:
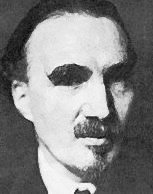 «Легко себе представить, как будет выглядеть мир в случае победы России. …
«Легко себе представить, как будет выглядеть мир в случае победы России. …
Америка не мечтает о мировом господстве. Она думает больше об организации своей безопасности, но поняв уже, что мир стал слишком тесен для безопасности одиноких. Она уже преодолела свой врожденный изоляционизм и пытается организовать мировой хаос. Пока еще долларом и хлебом, не адекватными пулеметам и пушкам ее вездесущего противника. Но военный потенциал Америки огромен. В случае военного столкновения ее победа несомненна…
Сила еще не значит завоевание. … В случае победы Америки, Англии и их союзников единство мира должно отлиться в форме действительной, а не мнимой федерации. Такова сама структура и Соединенных Штатов, и Британского Commonwealth [Содружества]. В настоящее время англосаксы не представляют себе власти, организованной вне самоуправления. … Опасность Атлантического варианта Империи не в злоупотреблении властью, а скорее в бездействии власти. У свободных народов нет вкуса к насилию, и это прекрасно. Но в настоящее время у них нет вкуса к власти, а это опасно. …
Если сильный откажется от своей тяжелой ответственности, мир снова развалится, и уже безнадежно.
Но опыт двух войн показал, что англосаксонские демократии, часто пассивные во время мира, находят в себе волю и способность к героическому напряжению в роковой час. Чувство ответственности может заменить для них вкус к власти. …
…Нельзя забывать о третьей возможности – возможности не победы одной из двух Империй, а всеобщего разрушения и гибели, если столкновение произойдет в условиях приблизительного равенства сил и оружия»
Из директивы 10/2 Совета национальной безопасности США «Об управлении специальных операций», 18 июня 1948 года:
«Совет национальной безопасности, обращая внимание на злостную скрытую деятельность СССР, его стран сателлитов и коммунистических групп, направленную на дискредитацию и разрушение целей и деятельности Соединенных Штатов и других западных держав, постановляет, что в интересах сохранения мира и национальной безопасности Соединенных Штатов, открытая международная деятельность правительства Соединенных Штатов должна быть дополнена тайными операциями.
Совет национальной безопасности поручает Центральному разведывательному управлению проведение шпионажа и контршпионажа за границей. …
…Под «тайными операциями» следует понимать всякую деятельность, которая проводится или поручается для проведения правительством против враждебных иностранных государств или групп или в поддержку дружественных государств или групп, но которые планируются и осуществляются таким образом, чтобы исключить любую ответственность правительства Соединенных Штатов за них и чтобы, если откроется роль правительства Соединенных Штатов, оно имело бы право отказаться нести любую ответственность за них. В частности, эти операции могут включать любую скрытую деятельность, относящуюся к пропаганде, экономическим военным мерам, прямым превентивным действиям, включая саботаж, анти-саботаж, разрушение и эвакуационные меры, ниспровержение враждебных государств, включая помощь подпольным движениям сопротивления, партизанам и эмигрантским либеральным группам, а также поддержку местных антикоммунистических элементов в притесняемых странах свободного мира. Такие операции не будут включать конфликты с помощью известных вооруженных сил, шпионаж, контршпионаж, а также предлоги и ложь для развязывания военных операций»
Джон Гренвилл, английский историк:
«Ратификация сенатом США договора об образовании НАТО ознаменовала революционный переворот в американском отношении к мировым проблемам. Теперь линия обороны США пролегала в Европе, а безопасность Американского континента напрямую зависела от мировой безопасности. … Первым главой Совета [национальной безопасности США] стал Джордж Кеннан. Совет национальной безопасности утвердил доктрину, согласно которой основную угрозу для Америки представляет распространение советской сферы влияния, а потому главным приоритетом должна стать защита Западной Европы. Последующие американские президенты неукоснительно придерживались этой доктрины.
Западная Европа избавилась от кошмара оказаться один на один с СССР»
Олдос Хаксли, английский писатель, 1952 год:
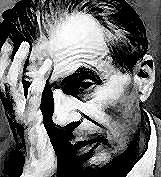 «Тираны прошлого пали оттого, что не всегда могли дать подданным достаточно хлеба, зрелищ и чудес. Не было у них и по-настоящему эффективной системы манипулирования человеческим мозгом… Иное дело диктатор, в распоряжении которого достижения современной науки. Он сделает обучение по-настоящему успешным, он добьется того, что подавляющая масса мужчин и женщин вырастут в любви к своему рабству и никогда не будут помышлять о бунте.
«Тираны прошлого пали оттого, что не всегда могли дать подданным достаточно хлеба, зрелищ и чудес. Не было у них и по-настоящему эффективной системы манипулирования человеческим мозгом… Иное дело диктатор, в распоряжении которого достижения современной науки. Он сделает обучение по-настоящему успешным, он добьется того, что подавляющая масса мужчин и женщин вырастут в любви к своему рабству и никогда не будут помышлять о бунте.
И все же – все же! – свобода еще есть на свете. Большинство молодых людей, возможно, еще не научились ее ценить. Возможно, силы, противостоящие свободе, вовсе непреодолимы. Пусть! Мы обязаны им сопротивляться»
Бертран Рассел, английский математик, философ, начало 50-х годов:
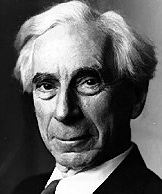 «Начиная с 1945 года Советы добились целой серии впечатляющих успехов, и некоторые люди, страдающие короткой памятью, вообразили, что подобные достижения должны увенчаться окончательным триумфом. Успехи русских, однако, не были сколько-нибудь значительнее тех, которых добился Гитлер между 1933 и 1940 годом. Гитлер в конце концов потерпел крах, как этого и ожидал всякий здравомыслящий человек. В силу тех же причин и Советы ожидает неудача.
«Начиная с 1945 года Советы добились целой серии впечатляющих успехов, и некоторые люди, страдающие короткой памятью, вообразили, что подобные достижения должны увенчаться окончательным триумфом. Успехи русских, однако, не были сколько-нибудь значительнее тех, которых добился Гитлер между 1933 и 1940 годом. Гитлер в конце концов потерпел крах, как этого и ожидал всякий здравомыслящий человек. В силу тех же причин и Советы ожидает неудача.
Начиная с XVI столетия любое государство на Европейском континенте, перед которым, казалось, открывался путь к успеху, исходило из плана мирового господства. …
Человека можно уподобить животному, не способному учиться исходя из собственного опыта. Вслед за Испанией, Францией и Германией, отбросившими в каждом отдельном случае реальную возможность процветания ради ложной идеи, Россия, то ли по неведению, то ли в силу ошибочных расчетов, начала движение по той же самой дороге. Эта дорога в их случае, как и во всех остальных, с неизбежностью ведет к полному краху. …
Все еще сохраняется вероятность того, что Советы проявят сдержанность и решат мирным путем развивать огромные ресурсы, ими контролируемые. Однако прогнозы неблагоприятны. С каждым годом, с каждым месяцем перспективы третьей мировой войны становятся все более угрожающими, а следовательно, растет страх по поводу того, что Москва повторит пример Мадрида, Парижа и Берлина. Если же это произойдет, то на какой разумной основе… базируются надежды тех, кто уповает на победу западных держав?
Первый и наиглавнейший фактор – это то, что Америка и Британское Содружество вместе решительно превосходят индустриальный потенциал Советского Союза. Еще более впечатляющим образом первенствуют они в сфере технологии, но особенно – в области науки, которая столь важна в современной войне. …
Есть, по-моему,.. и другие резоны, позволяющие надеяться на то, что коммунистическая вера подвергнется разрушению изнутри. Она налагает слишком жесткую узду на человеческую природу, дисциплину столь беспощадную, как в монастыре траппистов. Она требует отказа от элементарных благ, заключающихся в чувстве безопасности и элементарном досуге. Все это она относит на будущее, которое, подобно радуге, удаляется от усталого путника по мере того, как он к ней приближается.
Рано или поздно, особенно если первоначальные успехи создадут ощущение безопасности, любовь к достатку и удовольствиям поглотят энергию уже заметно подуставших коммунистов. Они скажут: «Почему мы не можем наслаждаться хотя бы частью тех радостей, которые стали возможными благодаря нашим усилиям? Почему мы обязаны трудиться номинально во имя будущих поколений, а в сущности на благо Кремля?» Коррупция их подточит. Гаремы покажутся привлекательнее, чем забота о заводском производстве. Некоторые неосторожные люди захотят большей свободы мысли, чем это позволено в настоящее время. …
Советы пытаются загнать людей в противоестественное для человеческих существ состояние. Они проявили в такого рода попытках больше мастерства, чем это делала до того любая шайка фанатиков, но тем не менее все их усилия обречены на неудачу. Если это и не произойдет скоро, они все равно потерпят неудачу в период видимого успеха»
Джордж Кеннан, американский дипломат, 1951 год:
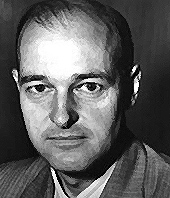 «Если нам придется поднять оружие против тех, кто теперь правит русским народом, мы должны будем избегать всего, что заставило бы русский народ видеть в нас его врагов, и мы сами не должны считать, что русские люди наши враги. …
«Если нам придется поднять оружие против тех, кто теперь правит русским народом, мы должны будем избегать всего, что заставило бы русский народ видеть в нас его врагов, и мы сами не должны считать, что русские люди наши враги. …
Путь этого народа из мрака и нищеты был мучительным, он сопровождался безмерными страданиями и прерывался тяжелыми неудачами. Нигде на земле огонек веры в человеческое достоинство и милосердие не мерцал так неровно, сопротивляясь налетавшим на него порывам ветра. Но этот огонек никогда не угасал; не угас он даже теперь в самой толще России; и тот, кто изучит многовековую историю борения русского духа, не может не склониться с восхищением перед русским народом. …
Было бы поистине трагичным, если бы под влиянием возмущения советской идеологией или советской политикой мы превратились в соучастников русского деспотизма, забыв о величии русского народа, потеряв веру в его гений, в его способность творить добро…
Мы, люди западного мира, верящие в принципы свободы, не можем одержать победу в борьбе с разрушительными силами советской власти, не имея на своей стороне русский народ в качестве добровольного союзника. …
Самым важным видом влияния, которое Соединенные Штаты могут оказать на развитие внутренней жизни России, остается влияние примером – примером Америки, какой она есть не только в представлении других народов, но и на самом деле. … Многие думают, что вопрос в том, к чему мы должны призывать других… Я же считаю, что это прежде всего вопрос о том, что мы должны требовать от самих себя. … Любое слово, с которым мы обратимся к человечеству, может стать действенным лишь в том случае, если оно будет отражать нашу внутреннюю жизнь…»
ГЕРМАНИЯ. ПОСЛЕ РАЗГРОМА
Фридеманн Бедюрфтиг, немецкий историк:
«Страна была превращена в пустыню. Такие города, как Кельн, Дрезден, Кассель или Дортмунд, уцелели лишь на треть; 40 процентов квартир были полностью разрушены или больше не подлежали восстановлению. В когда-то современных промышленных регионах Силезии и Рурской области дымились уже не фабричные трубы, а руины. Все 33 железнодорожные моста через Рейн и Везер, 22 из 34 мостов через Дунай рухнули, треть железнодорожной сети была выведена из строя. Электро- и водоснабжение работали кое-где и с перебоями. По этому хаосу блуждали миллионы людей в поисках пристанища и пищи, в поисках друзей, детей, родителей. Это были те, кто потерял кров в результате бомбежек, и беженцы с Востока; освобожденные с принудительных работ и бывшие заключенные. И это были прежде всего женщины и дети, старики и калеки, так как свыше 4 миллионов мужчин погибло, 12 миллионов были в плену. И все они вместе потеряли средства к существованию, потеряли тем или иным образом родину… Будущее представлялось мрачным, многие вообще сомневались, будет ли оно вообще как таковое. Резко подскочил процент самоубийств, прежде всего там, где к нищете добавлялось злоупотребление властью оккупантами, которые и женщин рассматривали как добычу.
Права побежденных? Но тогда мир скорее задавался вопросом, должны ли вообще распространяться на немцев права человека. Противники, попутчики или соучастники преступлений национал-социалистической системы – все они, будучи немцами, стояли у позорного столба, отвергнутые семьей народов, ужасавшейся творившимися в концентрационных лагерях преступлениям и непостижимым сообщениям из фабрик смерти. Тут не помогали заверения, что я, мол, ничего об этом не знал, ничего с этим общего не имел и как минимум в душе всегда был «против». Наоборот, это еще больше вредило правдоподобности слов немцев: как это коричневая масса вдруг превратилась в народ борцов Сопротивления с Библией на каждом ночном столике? …
…С востока Германии, из Судетской области и из Юго-Восточной Европы в общей сложности 12 миллионов человек были переселены в Западную Германию и 4,4 миллиона – в советскую оккупационную зону. Свыше 2 миллионов при этом погибло…
В первую послевоенную зиму нужда приняла опустошающие формы. … Советский нарком внешней торговли Анастас Микоян рассказывал о посещении Берлина: «Люди едят траву и кору деревьев». Те, кто мог отвоевать место на подножке поезда, ехали добывать продукты в сельскую местность, где положение было несколько лучше. В городах процветал «черный рынок»; хозяевами положения были те, кто мог предложить масло и сало, а настоящими Крезами сделались обладатели «Лаки страйк» и «Кэмела». На американские сигареты можно было выменять все, они стали валютой послевоенной Германии. …
Американцы относились к немцам весьма недоверчиво и с особым усердием взялись за их перевоспитание. Была разработана своего рода психотерапия для побежденных: немцев заставляли принудительно посещать бывшие концлагеря или откапывать трупы из массовых захоронений; таким образом от них хотели добиться осознания своей вины. …
Британцы также пришли с чувством «мести гнусным злодеям» (Черчилль), которым «надо преподать урок» (Монтгомери), но и как учителя в деле гуманности и демократии. Епископ Кентерберийский призвал по-христиански возлюбить побежденных; лейбористская партия успешно боролась за голоса избирателей такими лозунгами, как «Не будьте подлыми по отношению к немцам». Британцы больше, чем другие оккупационные державы, привлекали побежденных к управлению и дали простор парламентским процессам на уровне общины.
Генерал де Латтр де Тассиньи, французский наместник в юго-западной Германии, главной целью своей оккупационной политики назвал «уничтожение предшествующего режима вплоть до его психологических корней», но прежде всего занимался укреплением авторитета своего государства. Первый приказ, развешенный во всех городах после вступления французских войск, гласил: «Немецкое гражданское население должно приветствовать генералов и служебные машины с генеральскими знаками (мужчины – снятием шляпы)… невыполнение этого приказа искупается коллективным денежным штрафом или личным наказанием».
На Востоке все было иначе. Красноармейцы пришли в страну, которая даже будучи разрушенной, казалась во много крат богаче, чем их родина. «Люди живут здесь хорошо – писал домой один солдат. – Если ты заходишь в дом, не знаешь, на что вначале и смотреть, так много здесь перед глазами красивых вещей». Как победители, на протяжении нескольких лет подвергавшиеся жесточайшему немецкому произволу, на все эти «красивые вещи» они смотрели только как на свою собственность, конфисковывали и увозили часы и велосипеды, пианино и пишущие машинки. …
Многие снова оказались там, где томились в «Третьем рейхе» – в перешедших под советский контроль концлагерях, таких, как Бухенвальд или Заксенхаузен. Новыми-старыми заключенными были социал-демократы, не желавшие отказаться от «буржуазных заблуждений», и национал-социалистические преступники. Лагеря заполнялись и людьми, арестованными по доносу и имевшими мало шансов доказать свою невиновность. И наоборот, те, кто выказывал готовность к сотрудничеству, мог раньше, чем в западных зонах, принять участие в «антифашистско-демократическом» возрождении по советским рецептам. Сталин точнее, чем западные державы, знал, чего он хотел от Германии: создать передовой стратегический и идеологический бастион. …Уже 10 июня 1945 года в советской зоне было разрешено создание политических партий.
Да, именно во множественном числе – партий. Такова была стратегия: столь долго, сколь необходимо, поддерживать буржуазный фасад. Уже 2 мая 1945 года в Брухмюле неподалеку от Берлина приземлилась «группа Ульбрихта» из десяти человек с советскими инструкторами. Ульбрихт представлялся везде «бывшим депутатом рейхстага» и начал установление своей власти с основного принципа: «Это должно выглядеть демократично, но все должно быть в наших руках». …
Германия становилась новым союзником Запада – плотиной против коммунизма, овладевшего Восточной и Юго-Восточной Европой. Поэтому западные союзники начали форсировать оздоровление немецкой экономики…
Экономический успех должен был привести к окончательному расколу Германии, ибо ничто так успешно не разделяет, как деньги. Они должны были теперь потечь из США в разрушенные войной страны Европы. … Для эффективности денежного вливания Запад 20 июля 1948 года провел валютную реформу, углубившую раздел экономики Германии. Москва отклонила план Маршалла для своей сферы влияния, а на западную валютную реформу ответила своей реформой и, наконец, блокадой Западного Берлина, который… был включен в валютное пространство Запада.
Блокаду удалось преодолеть с помощью воздушного моста через год, а разделение Германии – только через четыре с лишним десятилетия.
Людвиг Эрхард, немецкий экономист, будущий организатор экономического «немецкого чуда», декабрь 1945 года:
«Никакая экономическая ситуация не может быть настолько безнадежной, чтобы решительная воля и честный труд всего народа не смогли справиться с ней»
Борис Зарицкий, экономист:
«Старшему поколению бывшей Западной Германии есть чем гордиться. Это именно его трудом и п`отом поверженная и разрушенная страна за сравнительно короткий срок сумела после войны подняться на ноги и превратиться в одну из самых благополучных и процветающих в Европе. Сегодня для любого немца «дойче марк» не просто денежная единица, но некий символ национального трудолюбия и экономической стабильности…
В чем же все-таки «секрет» быстрого возрождения германской экономики, ее необычайной устойчивости и жизнеспособности? Трудолюбие трудолюбием, но каждый человек должен знать, зачем, во имя чего он трудится, быть уверенным, что трудится он не напрасно. Если же этого нет, если экономический курс политического руководства ведет в никуда,.. то всякий труд скоро превращается в сизифов, а затем у людей и вовсе пропадает желание работать.
Все эти, в общем-то нехитрые истины хорошо понимал и максимально учитывал в своей практической политике Эрхард, под руководством которого в 1948 году в Германии началось осуществление денежной и экономической реформ. …
Высококвалифицированный ученый-экономист, он еще в годы войны убедился в пагубности методов финансовой и хозяйственной политики национал-социализма, включавшей в себя все основные атрибуты командной системы: планирование «сверху», административное распределение ресурсов, жесткий контроль над ценами, диктат крупнейших производителей-монополистов, разросшийся до гигантских размеров военный сектор в промышленности. …
Ключевые положения экономической философии самого Эрхарда сводились к следующему:
- «Принудительная» экономика не может быть эффективной никогда, нигде и ни в какой форме. Альтернатива командной системе одна, и другой в природе не существует. Это рыночная экономика, основанная на свободе, конкуренции и взаимной ответственности граждан и государства.
- Демонтаж командной системы и замена ее рыночной не могут быть растянуты во времени… «Критическую массу» рыночных преобразований надо проводить быстро, решительно и последовательно.
- Восстановление жизнеспособной денежной единицы – … отправная точка и необходимая предпосылка успешного продвижения к цели. Инфляционная «накачка» экономики, какими бы благими целями она ни оправдывалась, всегда контрпродуктивна по своим конечным результатам.
- Государство обязано активно вмешиваться в экономический процесс. Но направление, характер и способы такого вмешательства должны ориентироваться на поддержку свободного рынка…
- Прежде, чем что-то распределять, надо это «что-то» произвести. Что же касается самого распределения, то здесь самая главная задача государства – забота о слабых. Для тех же, кто в силах позаботиться о себе сам, оно обязано создать необходимые условия.
Убедить немцев в том, что единственное спасение от нищеты и голода, от засилья спекулянтов и бюрократов – это отказ от карточной системы, «отпуск» цен… и быстрейший запуск всех рыночных механизмов, оказалось непросто. За двенадцать лет господства нацистской разновидности «социализма» и три года послевоенной разрухи люди отвыкли работать без кнута, отвыкли от мысли, что за свою работу можно получить полновесные деньги, отвыкли от инициативы, свободы и неразрывно связанной с ней ответственности за самих себя. Все боялись: как бы не стало еще хуже. В условиях нехватки самых элементарных товаров распределительная система под контролем оккупационных властей многим представлялась наименьшим злом.
Против возвращения к «капиталистической анархии» выступали социал-демократы и профсоюзы. В своих первых программных документах и ХДС кокетничал с избирателями такими понятиями, как «план», «социализм». Не было единодушия и среди оккупационных властей. … Наибольшее понимание Эрхард встретил у американцев…
Уже к середине 50-х годов даже завзятым скептикам стало ясно, что система «социального рыночного хозяйства» выдержала испытание на прочность. К 1957 году, спустя 10 лет после начала реформ, Германия утроила свой ВНП, став вторым после США мировым экспортером. Стабильность немецкой марки вызывала зависть соседей, каждый седьмой немец обзавелся машиной, система социальной защиты не плодила иждивенцев, но позволяла каждому достойно встретить старость и болезни»;
«Восстановление Германии было не просто экономической победой. Это было прежде всего демонстрацией воли большинства населения вырваться из плена прошлого, вновь обрести национальное достоинство. Можно любить или не любить немцев, можно иронизировать над их страстью к порядку, дисциплине и привычкой «считать копейку», но надо признать, это была заслуженная победа трудолюбивого и мужественного народа»
КОРЕЙСКАЯ ВОЙНА
Григорий Туманов:
«Когда советские войска находились на севере Корейского полуострова после 1945-го, я в течение трех лет являлся старшим инструктором по работе с населением Северной Кореи.
В круг моих обязанностей входило издание газет, обеспечение местных кадров пропагандистской литературой, присылаемой из Москвы или из Хабаровска, а также оказание помощи представителю Верховного главнокомандования СССР в Пхеньяне генерал-полковнику Терентию Фомичу Штыкову в построении «советской власти» в Северной Корее.
Накануне войны я вновь оказался в Пхеньяне. По всему чувствовалось, что война не за горами. Создание КНДР и фактический раздел страны на две части этому только способствовали. В Пхеньяне постоянно нагнеталась антисеульская истерия. Во многом этому помогала и деятельность штаба Штыкова, преобразованного в 1949 году в посольство. Еженедельные анализы обстановки на Корейском полуострове, отчёты о настроениях населения Севера и Юга, производившиеся в штыковском штабе, порождали у московских и пхеньянских функционеров уверенность в успехе вторжения.
Шапкозакидательским настроениям благоприятствовали потрясшая мир победа народной революции в Китае, подъём партизанского движения во Вьетнаме, на Филиппинах, в Малайе, успехи коммунистов в Японии. В самой Южной Корее к тому времени сложилась неустойчивая внутриполитическая обстановка.
Помню, как на многочисленных совещаниях с привлечением северокорейских руководящих работников, где звучали армейский юмор и нецензурные выражения, советский посол любил порассуждать:
– Мы должны проверить прочность позиций США на Дальнем Востоке. Выяснить, как далеко может пойти Вашингтон в их защите. Победа Севера привела бы к уничтожению Корейской республики, превратила бы полуостров в нашу военно-стратегическую базу.
А при условии участия в войне КНР победа мирового пролетариата во всём регионе ни у кого бы не вызывала сомнений»
Елена Зубкова, историк:
«Во Владивостоке летом 1950 г. ходили слухи о том, что на Сахалине и Курильских островах якобы уже высадились американские войска. В связи с этим у части населения Сахалина возникли эвакуационные настроения. Из магазинов Приморского края стали исчезать товары первой необходимости (спички, соль, мыло, керосин и др.) население создавало запасы на случай военных действий. … В некоторых районах Подмосковья летом 1950 г. наблюдались большие очереди у продовольственных магазинов. В Загорске, например, только за один день 30 июня соли было продано 12 200 кг, в то время как раньше продавали в среднем в день не более 250 кг; в тот же день мыла было продано 12 190 кусков – в 10 раз больше, чем обычно. Во Владимире продажа соли за пять дней июля увеличилась в 8 раз, мыла и спичек – в 4,5 раз. Люди, поступая подобным образом, попадали под влияние общих настроений, общественного мнения; их действия диктовались не столько соображениями целесообразности, сколько инстинктом самосохранения»
Из книги «Россия (СССР) в локальных войнах и военных конфликтах второй половины ХХ века»:
 «…Вашингтон оказался вовлеченным в ограниченную войну, доктрина которой отсутствовала, и оборонял отдаленную страну, не представлявшую для него какого-либо стратегического интереса. Принципиальной целью американского вмешательства было продемонстрировать, что существует «возмездие за агрессию». В то же время трумэновская администрация поверила в то, что имеет место осуществление «коммунистического плана глобального характера» и сочла наступление войск Пьхеньяна «первым шагом согласованной китайско-советской стратегии». …
«…Вашингтон оказался вовлеченным в ограниченную войну, доктрина которой отсутствовала, и оборонял отдаленную страну, не представлявшую для него какого-либо стратегического интереса. Принципиальной целью американского вмешательства было продемонстрировать, что существует «возмездие за агрессию». В то же время трумэновская администрация поверила в то, что имеет место осуществление «коммунистического плана глобального характера» и сочла наступление войск Пьхеньяна «первым шагом согласованной китайско-советской стратегии». …
Основу ударной мощи многонациональных сил ООН составляла американская авиация, которая насчитывала к началу войны более 1100 самолетов. … К концу войны авиационный парк США увеличился до 2400 боевых самолетов. …
С началом контрнаступления многонациональных войск ООН… для КНА начался самый тяжелый период. Она несла большие потери. Тогда северокорейское правительство обратилось к советскому руководству с просьбой о посылке «интернациональных летных сил» для прикрытия боевых порядков корейской армии с воздуха. Вскоре на территории Китая началось формирование «средств прикрытия», которые в конечном итоге были объединены в 64-й истребительный авиационный корпус [иак], который принимал участие в Корейской войне. …
В ходе войны американцы неоднократно предпринимали попытки получить образцы советских реактивных истребителей. В июле 1951 г. это им удалось с истребителем МиГ-15, который был сбит ВВС США и Англии над западным побережьем Северной Кореи. Самолет упал на мелководье в районе о-ва Синбито, где и был обнаружен английскими летчиками, после чего американские военные корабли провели операцию по подъему его из воды. … Очередная попытка американцев увенчалась успехом в сентябре 1953 г., когда северокорейский летчик Но Гим Сок за 100 тыс. долларов угнал истребитель МиГ-15 бис (бортовой № 2057) и посадил его на американскую авиабазу Кимпо… Сейчас этот экземпляр находится в Национальном музее авиации и космонавтики в Вашингтоне. …
Со своей стороны, советское военное командование в Северной Корее принимало ряд мер по захвату американской боевой техники и оружия. «Охота» за «Сейбрами» велась практически с первых воздушных боев. Советские компетентные органы и НИИ требовали целый и невредимый американский самолет. Первый истребитель F-86 был захвачен 6 октября 1951 г. Он совершил вынужденную посадку на берегу Желтого моря после воздушного боя… 7 февраля 1952 г. в районе Гензана под руководством советских военных советников… была разработана и проведена операция по захвату вертолета ВВС США. …
Война в Корее закончилась 27 июля 1953 г. после подписания в Паньмыньчжоне соглашения о перемирии. Противостоящие друг другу войска остались по обе стороны 38-й параллели, там, где и начались боевые действия летом три года назад.
За время войны летчики 64-го иак… сбили 1309 самолетов противника… Советской стороной было захвачено в плен, а затем передано китайским и корейским войскам 262 американских летчика. Потери советской авиации… составили 125 летчиков и 335 самолетов. В целом безвозвратные потери советских войск в войне в Корее составили 275 человек…
В западных источниках приводятся несколько иные данные. Наибольшее хождение получили цифры из английской «Энциклопедии воздушной войны». Там говорится, что во время войны в Корее «авиация коммунистов» (авиация КНА, китайских добровольцев и 64-го иак) потеряла в воздухе 949 машин и на земле – 89. Только самолеты F-86 [«Сейбр»] уничтожили Ту-2 – 9 ед., Ла-9 – 6, Ил-12 – 2, МиГ-15 – 792 и др. – 2 ед. Всего 811 самолетов. Потери F-86 в воздушных боях составили 78 ед. Соотношение сбитых самолетов 12,5 : 1 в пользу «Сейбров». Общие же потери ВВС США составили 1182 самолета…
КНДР потеряла 2,5 млн. человек (в том числе 500 тыс. военнослужащих), Китай – 1 млн. военнослужащих, Республика Корея – 1,47 млн. человек. Потери США составили 54 046 военнослужащих, Великобритании – 686, 2508 человек потеряли другие страны»
Нас выгоняли на работу без всяких списков, отсчитывали в воротах пятерки. Строили всегда по пятеркам, ибо таблицей умножения умели бегло пользоваться далеко не все конвоиры. Любое арифметическое действие, если его производить на морозе и притом на живом материале, — штука серьезная. Чаша арестантского терпения может переполниться внезапно, и начальство считалось с этим.
Нынче у нас была легкая работа, блатная работа — пилка дров на циркулярной пиле. Пила вращалась в станке, легонько постукивая. Мы заваливали огромное бревно на станок и медленно подвигали к пиле.
Пила взвизгивала и яростно рычала — ей, как и нам, не нравилась работа на Севере, но мы двигали бревно все вперед и вперед, и вот бревно распадалось на две части, неожиданно легкие отрезки.
Третий наш товарищ колол дрова тяжелым синеватым колуном на длинной желтой ручке. Толстые чурки он окалывал с краев, те, что потоньше, разрубал с первого удара. Удары были слабы — товарищ наш был так же голоден, как и мы, но промороженная лиственница колется легко. Природа на Севере не безразлична, не равнодушна — она в сговоре с теми, кто послал нас сюда.
Мы кончили работу, сложили дрова и стали ждать конвоя. Конвоир-то у нас был, он грелся в учреждении, для которого мы пилили дрова, но домой полагалось возвращаться в полном параде — всей партией, разбившейся в городе на малые группы.
Кончив работу, греться мы не пошли. Давно уже мы заметили большую мусорную кучу близ забора — дело, которым нельзя пренебрегать. Оба моих товарища ловко и привычно обследовали кучу, снимая заледеневшие наслоения одно за другим. Куски промороженного хлеба, смерзшийся комок котлет и рваные мужские носки были их добычей. Самым ценным были, конечно, носки, и я жалел, что не мне досталась эта находка. Носки, шарфы, перчатки, рубашки, брюки вольные — «штатские» — большая ценность среди людей, десятилетиями надевающих лишь казенные вещи. Носки можно починить, залатать — вот и табак, вот и хлеб.
Удача товарищей не давала мне покоя. Я тоже отламывал ногами и руками разноцветные куски мусорной кучи. Отодвинув какую-то тряпку, похожую на человеческие кишки, я увидел — впервые за много лет — серую ученическую тетрадку.
Это была обыкновенная школьная тетрадка, детская тетрадка для рисования. Все ее страницы были разрисованы красками, тщательно и трудолюбиво. Я перевертывал хрупкую на морозе бумагу, заиндевелые яркие и холодные наивные листы. И я рисовал когда-то — давно это было, — примостясь у семилинейной керосиновой лампы на обеденном столе. От прикосновения волшебных кисточек оживал мертвый богатырь сказки, как бы спрыснутый живой водой. Акварельные краски, похожие на женские пуговицы, лежали в белой жестяной коробке. Иван Царевич на сером волке скакал по еловому лесу. Елки были меньше серого волка. Иван Царевич сидел верхом на волке так, как эвенки ездят на оленях, почти касаясь пятками мха. Дым пружиной поднимался к небу, и птички, как отчеркнутые галочки, виднелись в синем звездном небе.
И чем сильнее я вспоминал свое детство, тем яснее понимал, что детство мое не повторится, что я не встречу и тени его в чужой ребяческой тетради.
Это была грозная тетрадь.
Северный город был деревянным, заборы и стены домов красились светлой охрой, и кисточка юного художника честно повторила этот желтый цвет везде, где мальчик хотел говорить об уличных зданиях, об изделии рук человеческих.
В тетрадке было много, очень много заборов. Люди и дома почти на каждом рисунке были огорожены желтыми ровными заборами, обвитыми черными линиями колючей проволоки. Железные нити казенного образца покрывали все заборы в детской тетрадке.
Около забора стояли люди. Люди тетрадки не были ни крестьянами, ни рабочими, ни охотниками — это были солдаты, это были конвойные и часовые с винтовками. Дождевые будки-грибы, около которых юный художник разместил конвойных и часовых, стояли у подножья огромных караульных вышек. И на вышках ходили солдаты, блестели винтовочные стволы.
Тетрадка была невелика, но мальчик успел нарисовать в ней все времена года своего родного города.
Яркая земля, однотонно-зеленая, как на картинах раннего Матисса, и синее-синее небо, свежее, чистое и ясное. Закаты и восходы были добротно алыми, и это не было детским неуменьем найти полутона, цветовые переходы, раскрыть секреты светотени.
Сочетания красок в школьной тетради были правдивым изображением неба Дальнего Севера, краски которого необычайно чисты и ясны и не имеют полутонов.
Я вспомнил старую северную легенду о боге, который был еще ребенком, когда создавал тайгу. Красок было немного, краски были по-ребячески чисты, рисунки просты и ясны, сюжеты их немудреные.
После, когда бог вырос, стал взрослым, он научился вырезать причудливые узоры листвы, выдумал множество разноцветных птиц. Детский мир надоел богу, и он закидал снегом таежное свое творенье и ушел на юг навсегда. Так говорила легенда.
И в зимних рисунках ребенок не отошел от истины. Зелень исчезла. Деревья были черными и голыми. Это были даурские лиственницы, а не сосны и елки моего детства.
Шла северная охота; зубастая немецкая овчарка натягивала поводок, который держал в руке Иван Царевич. Иван Царевич был в шапке-ушанке военного образца, в белом овчинном полушубке, в валенках и в глубоких рукавицах, крагах, как их называют на Дальнем Севере. За плечами Ивана Царевича висел автомат. Голые треугольные деревья были натыканы в снег.
Ребенок ничего не увидел, ничего не запомнил, кроме желтых домов, колючей проволоки, вышек, овчарок, конвоиров с автоматами и синего, синего неба.
Товарищ мой заглянул в тетрадку и пощупал листы.
— Газету бы лучше искал на курево. — Он вырвал тетрадку из моих рук, скомкал и бросил в мусорную кучу. Тетрадка стала покрываться инеем. 1959
Поэт умирал. Большие, вздутые голодом кисти рук с белыми бескровными пальцами и грязными, отросшими трубочкой ногтями лежали на груди, не прячась от холода Раньше он совал их за пазуху, на голое тело, но теперь там было слишком мало тепла. Рукавицы давно украли; для краж нужна была только наглость — воровали среди бела дня. Тусклое электрическое солнце, загаженное мухами и закованное круглой решеткой, было прикреплено высоко под потолком. Свет падал в ноги поэта — он лежал, как в ящике, в темной глубине нижнего ряда сплошных двухэтажных нар. Время от времени пальцы рук двигались. щелкали, как кастаньеты, и ощупывали пуговицу, петлю, дыру на бушлате, смахивали какой-то сор и снова останавливались. Поэт так долго умирал, что перестал понимать, что он умирает. Иногда приходила, болезненно и почти ощутимо проталкиваясь через мозг, какая-нибудь простая и сильная мысль — что у него украли хлеб, который он положил под голову. И это было так обжигающе страшно, что он готов был спорить, ругаться, драться, искать, доказывать. Но сил для всего этого не было, и мысль о хлебе слабела… И сейчас же он думал о другом, о том, что всех должны везти за море, и почему-то опаздывает пароход, и хорошо, что он здесь. И так же легко и зыбко он начинал думать о большом родимом пятне на лице дневального барака. Большую часть суток он думал о тех событиях, которые наполняли его жизнь здесь. Видения, которые вставали перед его глазами, не были видениями детства, юности, успеха. Всю жизнь он куда-то спешил. Было прекрасно, что торопиться не надо, что думать можно медленно. И он не спеша думал о великом однообразии предсмертных движений, о том, что поняли и описали врачи раньше, чем художники и поэты. Гиппократово лицо — предсмертная маска человека — известно всякому студенту медицинского факультета. Это загадочное однообразие предсмертных движений послужило Фрейду поводом для самых смелых гипотез. Однообразие, повторение — вот обязательная почва науки. То, что в смерти неповторимо, искали не врачи, а поэты. Приятно было сознавать, что он еще может думать. Голодная тошнота стала давно привычной. И все было равноправно — Гиппократ, дневальный с родимым пятном и его собственный грязный ноготь.
Жизнь входила в него и выходила, и он умирал. Но жизнь появлялась снова, открывались глаза, появлялись мысли. Только желаний не появлялось. Он давно жил в мире, где часто приходится возвращать людям жизнь — искусственным дыханием, глюкозой, камфорой, кофеином. Мертвый вновь становился живым. И почему бы нет? Он верил в бессмертие, в настоящее человеческое бессмертие. Часто думал, что просто нет никаких биологических причин, почему бы человеку не жить вечно… Старость — это только излечимая болезнь, и, если бы не это не разгаданное до сей минуты трагическое недоразумение, он мог бы жить вечно. Или до тех пор, пока не устанет. А он вовсе не устал жить. Даже сейчас, в этом пересыльном бараке, «транзитке», как любовно выговаривали здешние жители. Она была преддверием ужаса, но сама ужасом не была. Напротив, здесь жил дух свободы, и это чувствовалось всеми. Впереди был лагерь, позади — тюрьма. Это был «мир в дороге», и поэт понимал это.
Был еще один путь бессмертия — тютчевский:
Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые.
Но если уж ему, как видно, не придется быть бессмертным в человеческом образе, как некая физическая единица, то уж творческое-то бессмертие он заслужил. Его называли первым русским поэтом двадцатого века, и он часто думал, что это действительно так. Он верил в бессмертие своих стихов. У него не было учеников, но разве поэты их терпят? Он писал и прозу — плохую, писал статьи. Но только в стихах он нашел кое-что новое для поэзии, важное, как казалось ему всегда. Вся его прошлая жизнь была литературой, книгой, сказкой, сном, и только настоящий день был подлинной жизнью.
Все это думалось не в споре, а потаенно, где-то глубоко в себе. Размышлениям этим не хватало страсти. Равнодушие давно владело им. Какими все это было пустяками, «мышьей беготней» по сравнению с недоброй тяжестью жизни. Он удивлялся себе — как он может думать так о стихах, когда все уже было решено, а он это знал очень хорошо, лучше, чем кто-либо? Кому он нужен здесь и кому он равен? Почему же все это надо было понять, и он ждал… и понял.
В те минуты, когда жизнь возвращалась в его тело и его полуоткрытые мутные глаза вдруг начинали видеть, веки вздрагивать и пальцы шевелиться, возвращались и мысли, о которых он не думал, что они — последние.
Жизнь входила сама как самовластная хозяйка: он не звал ее, и все же она входила в его тело, в его мозг, входила, как стихи, как вдохновение. И значение этого слова впервые открылось ему во всей полноте. Стихи были той животворящей силой, которой он жил. Именно так. Он не жил ради стихов, он жил стихами.
Сейчас было так наглядно, так ощутимо ясно, что вдохновение и было жизнью; перед смертью ему дано было узнать, что жизнь была вдохновением, именно вдохновением.
И он радовался, что ему дано было узнать эту последнюю правду.
Все, весь мир сравнивался со стихами: работа, конский топот, дом, птица, скала, любовь — вся жизнь легко входила в стихи и там размещалась удобно. И это так и должно было быть, ибо стихи были словом.
Строфы и сейчас легко вставали, одна за другой, и, хоть он давно не записывал и не мог записывать своих стихов, все же слова легко вставали в каком-то заданном и каждый раз необычайном ритме. Рифма была искателем, инструментом магнитного поиска слов и понятий. Каждое слово было частью мира, оно откликалось на рифму, и весь мир проносился с быстротой какой-нибудь электронной машины. Все кричало: возьми меня. Нет, меня. Искать ничего не приходилось. Приходилось только отбрасывать. Здесь было как бы два человека — тот, который сочиняет, который запустил свою вертушку вовсю, и другой, который выбирает и время от времени останавливает запущенную машину. И, увидя, что он — это два человека, поэт понял, что сочиняет сейчас настоящие стихи. А что в том, что они не записаны? Записать, напечатать — все это суета сует. Все, что рождается небескорыстно, — это не самое лучшее. Самое лучшее то, что не записано, что сочинено и исчезло, растаяло без следа, и только творческая радость, которую ощущает он и которую ни с чем не спутать, доказывает, что стихотворение было создано, что прекрасное было создано. Не ошибается ли он? Безошибочна ли его творческая радость?
Он вспомнил, как плохи, как поэтически беспомощны были последние стихи Блока и как Блок этого, кажется, не понимал…
Поэт заставил себя остановиться. Это было легче делать здесь, чем где-нибудь в Ленинграде или Москве.
Тут он поймал себя на том, что он уже давно ни о чем не думает. Жизнь опять уходила из него.
Долгие часы он лежал неподвижно и вдруг увидел недалеко от себя нечто вроде стрелковой мишени или геологической карты. Карта была немая, и он тщетно пытался понять изображенное. Прошло немало времени, пока он сообразил, что это его собственные пальцы. На кончиках пальцев еще оставались коричневые следы докуренных, дососанных махорочных папирос — на подушечках ясно выделялся дактилоскопический рисунок, как чертеж горного рельефа. Рисунок был одинаков на всех десяти пальцах — концентрические кружки, похожие на срез дерева. Он вспомнил, как однажды в детстве его остановил на бульваре китаец из прачечной, которая была в подвале того дома, где он вырос. Китаец случайно взял его за руку, за другую, вывернул ладони вверх и возбужденно закричал что-то на своем языке. Оказалось, что он объявил мальчика счастливцем, обладателем верной приметы. Эту метку счастья поэт вспоминал много раз, особенно часто тогда, когда напечатал свою первую книжку. Сейчас он вспоминал китайца без злобы и без иронии — ему было все равно.
Самое главное, что он еще не умер. Кстати, что значит: умер как поэт? Что-то детски наивное должно быть в этой смерти. Или что-то нарочитое, театральное, как у Есенина, у Маяковского.
Умер как актер — это еще понятно. Но умер как поэт?
Да, он догадывался кое о чем из того, что ждало его впереди. На пересылке он многое успел понять и угадать. И он радовался, тихо радовался своему бессилию и надеялся, что умрет. Он вспомнил давнишний тюремный спор: что хуже, что страшнее — лагерь или тюрьма? Никто ничего толком не знал, аргументы были умозрительные, и как жестоко улыбался человек, привезенный из лагеря в ту тюрьму. Он запомнил улыбку этого человека навсегда, так, что боялся ее вспоминать.
Подумайте, как ловко он их обманет, тех, что привезли его сюда, если сейчас умрет, — на целых десять лет. Он был несколько лет назад в ссылке и знал, что он занесен в особые списки навсегда. Навсегда?! Масштабы сместились, и слова изменили смысл.
Снова он почувствовал начинающийся прилив сил, именно прилив, как в море. Многочасовой прилив. А потом — отлив. Но море ведь не уходит от нас навсегда. Он еще поправится.
Внезапно ему захотелось есть, но не было силы двигаться. Он медленно и трудно вспомнил, что отдал сегодняшний суп соседу, что кружка кипятку была его единственной пищей за последний день. Кроме хлеба, конечно. Но хлеб выдавали очень, очень давно. А вчерашний — украли. У кого-то еще были силы воровать.
Так он лежал легко и бездумно, пока не наступило утро. Электрический свет стал чуть желтее, и принесли на больших фанерных подносах хлеб, как приносили каждый день.
Но он уже не волновался, не высматривал горбушку, не плакал, если горбушка доставалась не ему, не запихивал в рот дрожащими пальцами довесок, и довесок мгновенно таял во рту, ноздри его надувались, и он всем своим существом чувствовал вкус и запах свежего ржаного хлеба. А довеска уже не было во рту, хотя он не успел сделать глотка или пошевелить челюстью. Кусок хлеба растаял, исчез, и это было чудо — одно из многих здешних чудес. Нет, сейчас он не волновался. Но когда ему вложили в руки его суточную пайку, он обхватил ее своими бескровными пальцами и прижал хлеб ко рту. Он кусал хлеб цинготными зубами, десны кровоточили, зубы шатались, но он не чувствовал боли. Изо всех сил он прижимал ко рту, запихивал в рот хлеб, сосал его, рвал и грыз…
Его останавливали соседи.
— Не ешь все, лучше потом съешь, потом…
И поэт понял. Он широко раскрыл глаза, не выпуская окровавленного хлеба из грязных синеватых пальцев.
— Когда потом? — отчетливо и ясно выговорил он. И закрыл глаза.
К вечеру он умер.
Но списали его на два дня позднее, — изобретательным соседям его удавалось при раздаче хлеба двое суток получать хлеб на мертвеца; мертвец поднимал руку, как кукла-марионетка. Стало быть, он умер раньше даты своей смерти — немаловажная деталь для будущих его биографов. 1958
Суку Тамару привел из тайги наш кузнец — Моисей Моисеевич Кузнецов. Судя по фамилии, профессия у него была родовой. Моисей Моисеевич был уроженцем Минска. Был Кузнецов сиротой, как, впрочем, можно было судить по его имени и отчеству — у евреев сына называют именем отца только и обязательно, если отец умирает до рождения сына. Работе он учился с мальчиков — у дяди, такого же кузнеца, каким был отец Моисея.
Жена Кузнецова была официанткой одного из минских ресторанов, была много моложе сорокалетнего мужа и в тридцать седьмом году, по совету своей задушевной подруги-буфетчицы, написала на мужа донос. Это средство в те годы было вернее всякого заговора или наговора и даже вернее какой-нибудь серной кислоты — муж, Моисей Моисеевич, немедленно исчез. Кузнец он был заводской, не простой коваль, а мастер, даже немножко поэт, работник той породы кузнецов, что могли отковать розу. Инструмент, которым он работал, был изготовлен им собственноручно. Инструмент этот — щипцы, долота, молотки, кувалды — имел несомненное изящество, что обличало любовь к своему делу и понимание мастером души своего дела. Тут дело было вовсе не в симметрии или асимметрии, а кое в чем более глубоком, более внутреннем. Каждая подкова, каждый гвоздь, откованный Моисеем Моисеевичем, были изящны, и на всякой вещи, выходившей из его рук, была эта печать мастера. Над всякой вещью он оставлял работу с сожалением: ему все казалось, что нужно ударить еще раз, сделать еще лучше, еще удобней.
Начальство его очень ценило, хотя кузнечная работа для геологического участка была невелика. Моисей Моисеевич шутил иногда шутки с начальством, и эти шутки ему прощались за хорошую работу. Так, он заверил начальство, что буры лучше закаливаются в масле, чем в воде, и начальник выписывал в кузницу сливочное масло — в ничтожном, конечно, количестве. Малое количество этого масла Кузнецов бросал в воду, и кончики стальных буров приобретали мягкий блеск, которого никогда не бывало при обычном закаливании. Остальное масло Кузнецов и его молотобоец съедали. Начальнику вскорости донесли о комбинациях кузнеца, но никаких репрессий не последовало. Позднее Кузнецов, настойчиво уверяя в высоком качестве масляного закаливания, выпросил у начальника обрезки масляных брусов, тронутых плесенью на складе. Эти обрезки кузнец перетапливал и получал топленое, чуть-чуть горьковатое масло. Человек он был хороший, тихий и всем желал добра.
Начальник наш знал все тонкости жизни. Он, как Ликург, позаботился о том, чтобы в его таежном государстве было два фельдшера, два кузнеца, два десятника, два повара, два бухгалтера. Один фельдшер лечил, а другой работал на черной работе и следил за своим коллегой — не совершит ли тот чего-либо противозаконного. Если фельдшер злоупотреблял «наркотикой» — всяким «кодеинчиком» и «кофеинчиком», он разоблачался, подвергался наказанию и отправлялся на общие работы, а его коллега, составив и подписав приемочный акт, водворялся в медицинской палатке. По мысли начальника, резервные кадры специалистов не только обеспечивали замену в нужный момент, но и способствовали дисциплине, которая, конечно, сразу упала бы, если хоть один специалист чувствовал себя незаменимым.
Но бухгалтеры, фельдшера, десятники менялись местами довольно бездумно и, уж во всяком случае, не отказывались от стопки спирту, хотя бы ее подносил провокатор.
Кузнецу, подобранному начальником в качестве противовеса Моисею Моисеевичу, так и не пришлось держать молотка в руках — Моисей Моисеевич был безупречен, неуязвим, да и квалификация его была высока.
Он-то и встретил на таежной тропе неизвестную якутскую собаку волчьего вида: суку с полоской вытертой шерсти на белой груди — это была ездовая собака.
Ни поселков, ни кочевых стойбищ якутских вокруг нас не было — собака возникла на таежной тропе перед Кузнецовым, перепуганным до крайности. Моисей Моисеевич подумал, что это волк, и побежал назад, хлюпая сапогами по тропинке, — за Кузнецовым шли другие.
Но волк лег на брюхо и подполз, виляя хвостом, к людям. Его погладили, похлопали по тощим бокам и накормили.
Собака осталась у нас. Скоро стало ясно, почему она не рискнула искать своих настоящих хозяев в тайге.
Ей было время щениться — в первый же вечер она начала рыть яму под палаткой, торопливо, едва отвлекаясь на приветствия. Каждому из пятидесяти хотелось ее погладить, приласкать и собственную свою тоску по ласке рассказать, передать животному.
Сам прораб Касаев, тридцатилетний геолог, справивший недавно десятилетие своей работы на Дальнем Севере, вышел, продолжая наигрывать на неразлучной своей гитаре, и осмотрел нового нашего жителя.
— Пусть он называется Боец, — сказал прораб.
— Это сука, Валентин Иванович, — радостно сказал Славка Ганушкин, повар.
— Сука? Ах, да. Тогда пусть называется Тамарой. — И прораб удалился.
Собака улыбнулась ему вслед, повиляла хвостом. Она быстро установила хорошие отношения со всеми нужными людьми. Тамара понимала роль Касаева и десятника Василенко в нашем поселке, понимала важность дружбы с поваром. На ночь заняла место рядом с ночным сторожем.
Скоро выяснилось, что Тамара берет пищу только из рук и ничего не трогает ни на кухне, ни в палатке, есть там люди или нет.
Эта твердость нравственная особенно умиляла видавших виды и бывавших во всяких переплетах жителей поселка.
Перед Тамарой раскладывали на полу консервированное мясо, хлеб с маслом. Собака обнюхивала съестные припасы, выбирала и уносила всегда одно и то же — кусок соленой кеты, самое родное, самое вкусное, наверняка безопасное.
Сука вскоре ощенилась — шесть маленьких щенят стало в темной яме. Щенятам сделали конуру, перетащили их туда. Тамара долго волновалась, унижалась, виляла хвостом, но, по-видимому, все было в порядке, щенки были целы.
В это время поисковой партии пришлось подвинуться еще километра на три в горы — от базы, где были склады, кухня, начальство, место жилья было километрах в семи. Конура со щенятами была взята на новое место, и Тамара дважды и трижды в день бегала к повару и тащила щенятам в зубах какую-нибудь кость, которую ей давал повар. Щенят бы накормили и так, но Тамара никогда не была в этом уверена.
Случилось так, что в наш поселок прибыл лыжный отряд «оперативки», рыскавший в тайге в поисках беглецов. Побег зимой — крайне редкое дело, но были сведения, что с соседнего прииска бежали пять арестантов, и тайгу прочесывали.
На поселке лыжному отряду отвели не палатку, вроде той, в которой мы жили, а единственное в поселке рубленое здание — баню. Миссия лыжников была слишком серьезна, чтобы вызвать чьи-либо протесты, как объяснил нам прораб Касаев.
Жители отнеслись к незваным гостям с привычным безразличием, покорностью. Только одно существо выразило резкое недовольство по этому поводу.
Сука Тамара молча бросилась на ближайшего охранника и прокусила ему валенок. Шерсть на Тамаре стояла дыбом, и бесстрашная злоба была в ее глазах. Собаку с трудом отогнали, удержали.
Начальник опергруппы Назаров, о котором мы кое-что слышали и раньше, схватился было за автомат, чтобы пристрелить собаку, но Касаев удержал его за руку и втащил за собой в баню.
По совету плотника Семена Парменова на Тамару надели веревочную лямку и привязали ее к дереву — не век же оперативники будут у нас жить.
Лаять Тамара не умела, как всякая якутская собака. Она рычала, старые клыки пытались перегрызть веревку — это была совсем не та мирная якутская сука, которая прожила с нами зиму. Ненависть ее была необыкновенна, и за этой ненавистью вставало ее прошлое: не в первый раз собака встречалась с конвоирами, это было видно каждому.
Какая лесная трагедия осталась навсегда в собачьей памяти? Было ли это страшное былое причиной появления якутской суки в тайге близ нашего поселка?
Назаров мог бы, вероятно, кое-что рассказать, если помнил не только людей, но и животных.
Дней через пять ушли три лыжника, а Назаров с приятелем и с нашим прорабом собрались уходить на следующее утро. Всю ночь они пили, опохмелились на рассвете и пошли.
Тамара зарычала, и Назаров вернулся, снял с плеча автомат и выпустил в собаку патронную очередь в упор. Тамара дернулась и замолчала. Но на выстрел уже бежали из палаток люди, хватая топоры, ломы. Прораб бросился наперерез рабочим, и Назаров скрылся в лесу.
Иногда исполняются желания, а может быть, ненависть всех пятидесяти человек к этому начальнику была так страстна и велика, что стала реальной силой и догнала Назарова.
Назаров ушел на лыжах вдвоем со своим помощником. Они пошли не руслом вымерзшей до дна реки — лучшей зимней дороги к большому шоссе в двадцати километрах от нашего поселка, — а горами через перевал. Назаров боялся погони, притом путь горами был ближе, а лыжник он был превосходный.
Уже стемнело, когда поднялись они на перевал, только на вершинах гор был еще день, а провалы ущелий были темными. Назаров стал спускаться с горы наискось, лес стал гуще. Назаров понял, что ему надо остановиться, но лыжи увлекали его вниз, и он налетел на длинный, обточенный временем пень упавшей лиственницы, укрытой под снегом. Пень пропорол Назарову брюхо и спину, разорвав шинель. Второй боец был далеко внизу на лыжах, он добежал до шоссе и только на другой день поднял тревогу. Нашли Назарова через два дня, он висел на этом пне закоченевший в позе движения, бега, похожий на фигуру из батальной диорамы.
Шкуру с Тамары содрали, растянули гвоздями на стене конюшни, но растянули плохо — высохшая шкура стала совсем маленькой, и нельзя было подумать, что она была впору крупной ездовой якутской лайке.
Приехал вскоре лесничий выписывать задним числом билеты на порубки леса, произведенные больше года назад. Когда валили деревья, никто не думал о высоте пеньков, пеньки оказались выше нормы — требовалась повторная работа. Это была легкая работа. Лесничему дали купить кое-что в магазине, дали денег, спирту. Уезжая, лесничий выпросил собачью шкуру, висевшую на стене конюшни, — он ее выделает и сошьет «собачины» — северные собачьи рукавицы мехом вверх. Дыры на шкуре от пуль не имели, по его словам, значения. 1959