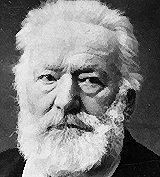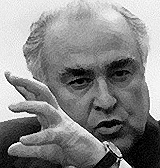АЛЬТЕРНАТИВА. «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазар Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому ещё дородности Иван Павловича — я бы тогда тотчас же решилась», — мечтает у Гоголя разборчивая невеста.
Но увы! — она стоит не просто перед выбором, она стоит перед альтернативой: или-или-или — один вариант полностью исключает все остальные, и его нужно принимать в целом, со всеми достоинствами, но и с неизбежными его недостатками. (При таком альтернативном выборе сами взаимоисключающие варианты также можно называть альтернативами.)
Ясухиро Накасонэ, бывший премьер-министр Японии, из книги «После «холодной войны»:
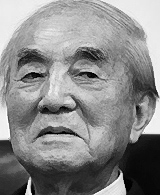 «Если постоянно думать, что существует богатое развитое государство (цивилизация), которое намного превосходит твое и намного сильнее его, то само собой возникает чувство неполноценности. …
«Если постоянно думать, что существует богатое развитое государство (цивилизация), которое намного превосходит твое и намного сильнее его, то само собой возникает чувство неполноценности. …
Побежденная Америкой, Япония оказалась в положении оккупированной страны. … Американская цивилизация одержала победу в материальной сфере. Япония была побеждена и в духовной области… Тогда говорили: «Вторая мировая война ознаменовала победу демократии и либерализма».
Людей снова захватила мысль: «Ну вот, Япония по-прежнему является отсталой, варварской страной». Скрытое в глубине души в течение долгих полутора тысяч лет чувство поражения, еще раз больно ударило по самосознанию.
Оккупация Японии американцами в целом явилась благодеянием и прошла мирно – это был беспрецедентный случай. Прекратились воздушные налеты, все жили спокойно в своих домах. И дело не только в этом. По сравнению с военным временем в условиях оккупации люди ощутили чувство свободы. В стране были проведены демократическая и экономическая реформы. В результате весь японский народ охватило радостное ощущение того, что «после войны жить стало лучше». …
Кроме того, японцы воочию смогли увидеть несметные богатства Америки. По сравнению с солдатами императорской армии солдаты оккупационных войск по своим физическим данным и экипировке выглядели великолепно. Американские промышленные товары беспрерывным потоком хлынули в страну… В результате сознание японцев глубоко захватила притягательная сила американского образа жизни. Иными словами, иностранная оккупация стала не гнусным и постыдным событием, а наоборот, ее восприняли как символ освобождения.
Национализм, который во время войны пережил период подъема, стимулируемый лозунгом «Все для государства!» исчез. Однако… как только произошло некоторое оживление экономики, у японцев постепенно стала возрождаться уверенность в себе.
Идея национализма изменилась под воздействием экономизма. В конце прошлого века был провозглашен лозунг «Богатое государство – сильная армия», согласно которому богатое государство должно было целиком служить созданию сильной армии. …
Этот курс закончился крахом.
Тогда появился другой тезис: «Милитаризованное общество было плохим, поэтому, отказавшись от сильной армии, на этот раз приложим все силы только для создания богатого государства». В этом тезисе нашел проявление национализм периода после второй мировой войны. Положившись в военном отношении на Америку, Япония целиком устремилась в экономическую сферу»
Из ежедневно исполняемого работниками японской Matsusita Elektric Compani гимна корпорации:
«…Делая все возможное для увеличения продукции,
Посылая наши товары людям всего мира
Бесконечно и постоянно,
Подобно воде, бьющей из фонтана,
Расти, производство! Расти! Расти! Расти!
Гармония и искренность!
«Мацусита электрик!»
Джон Гренвилл, английский историк:
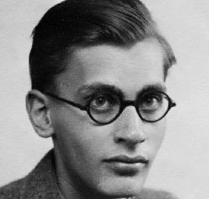 «В отличие от жителей многих стран мира японцы пользуются гражданскими свободами, а их правительство нельзя назвать ни диктаторским, ни авторитарным. … Политика чужда рядовому японцу, за исключением того, что касается его собственного благополучия, перспектив на работе, образования и будущего детей. Материальный прогресс и надежность – вот что главное. Те, кто получал места в нужных школах, университетах и компаниях, обеспечивались рабочими местами на всю жизнь. Компания заботилась о своих работниках, а в ответ они должны были каждодневно демонстрировать абсолютную лояльность. Такая система хороша для тех, кто попадает на нужное место – при условии, если они побеждают в жесточайшей конкуренции. …
«В отличие от жителей многих стран мира японцы пользуются гражданскими свободами, а их правительство нельзя назвать ни диктаторским, ни авторитарным. … Политика чужда рядовому японцу, за исключением того, что касается его собственного благополучия, перспектив на работе, образования и будущего детей. Материальный прогресс и надежность – вот что главное. Те, кто получал места в нужных школах, университетах и компаниях, обеспечивались рабочими местами на всю жизнь. Компания заботилась о своих работниках, а в ответ они должны были каждодневно демонстрировать абсолютную лояльность. Такая система хороша для тех, кто попадает на нужное место – при условии, если они побеждают в жесточайшей конкуренции. …
Развитие современной Японии назвали экономическим чудом, но чуда в этом нет – превосходный менеджмент, рабочая сила с образованием лучшим, чем в любой другой стране мира, национальное чувство гордости, упорное следование однажды намеченной цели и благоприятные условия в мире объясняют очень многое. … В начале 90-х годов перспективы, однако, померкли; рост прекратился, прибыль в банковском деле и промышленности упала. Последнее десятилетие века несет с собой перемены и бросает вызов старым обычаям»
Владислав Иноземцев, экономист:
 «…Опыт Японии показал, что сегодня в мировой экономике не может доминировать страна, которая не является мощным источником технологических нововведений… Японская промышленность сформировалась в условиях, когда доступ к технологиям был легким [«Условия, на которых японским предпринимателям и правительству удавалось приобретать новые технологии, поражают воображение: общие затраты на эти цели за 1952–1980 годы составили от 45 до 50 млрд. долл., что меньше расходов на научно-технические разработки в США в одном только 1980-м году»]… Не в последнюю очередь именно объясняется явное пренебрежение японцев проблемами образования и научных исследований. Образование поддерживалось на высоком уровне, но оставалось унифицированным, НИОКР [НИОКР – сокращенно «научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы»] занимали сравнительно небольшое место, в целом же культивируемые в обществе ценности и традиции препятствовали проявлению того индивидуализма, который только и может принести научные, технологические и хозяйственные достижения, адекватные потребностям наступающего столетия»;
«…Опыт Японии показал, что сегодня в мировой экономике не может доминировать страна, которая не является мощным источником технологических нововведений… Японская промышленность сформировалась в условиях, когда доступ к технологиям был легким [«Условия, на которых японским предпринимателям и правительству удавалось приобретать новые технологии, поражают воображение: общие затраты на эти цели за 1952–1980 годы составили от 45 до 50 млрд. долл., что меньше расходов на научно-технические разработки в США в одном только 1980-м году»]… Не в последнюю очередь именно объясняется явное пренебрежение японцев проблемами образования и научных исследований. Образование поддерживалось на высоком уровне, но оставалось унифицированным, НИОКР [НИОКР – сокращенно «научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы»] занимали сравнительно небольшое место, в целом же культивируемые в обществе ценности и традиции препятствовали проявлению того индивидуализма, который только и может принести научные, технологические и хозяйственные достижения, адекватные потребностям наступающего столетия»;
«Если в США только 6,6 процента ВНП производится в отраслях, считающихся регулируемыми государством, то в Японии этот показатель составляет в промышленности 16,8 процента, в сельском хозяйстве – 86 процентов, а в финансовой сфере – 100; среднее его значение равняется 50,4 процента. Масштаб вмешательства государства в экономику может быть проиллюстрирован тем, что японские потребители ежегодно теряли в конце 80-х около 40 млрд. долл. только на покупках продовольственных товаров, а пошлины на ввоз дешевого американского риса достигали 800 процентов; при этом на 170 тыс. японских фермеров приходилось 420 тыс. управленческих работников низового уровня и 90 тыс. персонала Министерства по делам сельского хозяйства и рыболовства. В результате в те годы цены на бытовую электронику в США были ниже японских на 40 процентов,.. на автомобили – на 71, на запчасти к ним – на 82, а на продовольственные товары – на 96 процентов…»;
«…Экономический рост мог поддерживаться двумя способами: сверхэксплуатацией работников и искусственным «впрыскиванием» необходимых ресурсов. …2044 часа, проводимых «среднестатистическим» японцем на работе в течение года [70-е годы], на 10 процентов превышают рабочее время американца, на 20 – англичанина и француза и более чем на 30 – немецкого работника. Характерно, что это положение фактически не могло быть изменено, так как господствовавшая в стране система лояльности той или иной фирме существенно снижала возможности миграции рабочей силы… Таким образом, несколько десятилетий роста были в значительной мере были основаны на экстенсивных факторах; даже применяя в массовом производстве весьма совершенные технологии, Япония сумела обеспечить к концу 80-х годов производительность труда, не достигавшую и 65 процентов американского уровня; при этом в отдельных отраслях она была гораздо ниже (в легкой промышленности – 57 процентов, в пищевой – 35, а в сельском хозяйстве – всего лишь 18 процентов американского показателя)»
Анна Фенько, публицист:
«Если Россия в своеобразной форме перенимает некоторые западные ценности, категорически отвергая другие, то Япония пока представляет собой неприступный бастион на пути глобализации. Там основную опасность, угрожающую детям, видят в разрушении традиционных методов воспитания и все более широком проникновении западных привычек и форм поведения.
Так в японских школах появилось все больше учеников, родившихся или проживших какое-то время в США и других странах Запада. Эти дети резко отличаются своими привычками от коренных японцев. Например, на уроках они проявляют инициативу и первыми отвечают на заданный учителем вопрос в то время, как остальные дети сидят молча, опустив голову. Дети, воспитанные на Западе, пытаются ответить на вопрос, даже когда не очень хорошо подготовлены, позволяя себе рассуждать и высказывать собственное мнение. Они могут даже во время монолога учителя поднять руку и задать какой-нибудь вопрос.
Такое поведение абсолютно неприемлемо с точки зрения японских педагогов. Нормальный японский школьник на уроке никогда не задает вопросов, никогда не лезет отвечать первым, а отвечает только тогда, когда обращаются лично к нему. Потому что настоящий Японец думает не о том, как показать свои знания, а о том, что своим выступлением он может обидеть товарища, которому тоже хочется блеснуть. А чем он лучше остальных?
Чтобы «выбить» из голов вестернизированных японских детей западный индивидуализм, их отправляют в специальные интернаты на перевоспитание в «подлинно японских традициях». В результате такого перевоспитания дети окончательно убеждаются в том, что они не только не лучше, а значительно хуже всех остальных японцев, и несут это клеймо «порченых» всю оставшуюся жизнь. почти как советские люди, побывавшие в фашистском плену и потом всю жизнь вынужденные писать в анкетах: «Находился на вражеской территории».
Несмотря ни на что, японская молодежь все больше заражается вирусом западного индивидуализма. Например, некоторые подростки отказываются наследовать семейную профессию. А есть и такие бунтовщики, которые самостоятельно выбирают себе невесту, пренебрегая мнением семьи. И даже на западный манер обращаются к своей девушке по имени, а не с помощью выдержавшего испытание временем традиционного японского обращения «Эй!»
Позволим себе напомнить текст Главы, в котором говорится о том, как менялась жизнь европейцев с началом промышленной революции:
«Во все времена и у всех народов общество представляло собой более или менее незыблемую иерархию. Место каждого человека в этой иерархии определялось при рождении, и важнейшей социальной добродетелью была готовность довольствоваться этим местом («всяк сверчок – знай свой шесток»). В эпоху промышленного переворота впервые в истории возникло общество, не только не стремящееся обуздать «выскочек», а, наоборот, ценящее и поощряющее инициативу и предприимчивость как главный залог общего благополучия. Каждому человеку предлагалось самостоятельно добиваться общественного признания своих способностей и талантов. Покорность судьбе и довольство малым перестали считаться добродетелями и превратились в пороки.
Во все времена и у всех народов считалось, что отношения между «верхами» и «низами» общества должны строиться так же, как между старшими и младшими в семье: отеческая опека в обмен на верную службу и благодарность. Землевладельца и крестьянина-арендатора, хозяина и работника связывали личные отношения, которые могли длиться не только всю жизнь, но и переходить из поколения в поколение. В отличие от «господ» прежних времен, капиталист не претендовал на роль заботливого отца своих рабочих и не ждал от них благодарности. Наем на работу стал всего лишь разновидностью торговой сделки между юридически равными взрослыми людьми, которая расторгалась так же легко, как и заключалась. Тут не было места ничему личному – конкуренция обрекала на неминуемое разорение любого «филантропа», держащего из жалости плохих работников или платящего повышенную зарплату.
Принять эти безличные отношения как должное могли далеко не все. «Маленький человек», нуждающийся в заботе и покровительстве со стороны «сильных мира сего», проникался в таких обстоятельствах ненавистью к «бездушным эксплуататорам». Суровость и безжалостность нового общества возмущала очень многих.
В традиционном обществе каждый человек жил в коллективе, в сложной системе личных отношений и связей. Эти отношения были в основном принудительными, человек не сам их строил, а получал при рождении. Вся жизнь его протекала на виду и под контролем, но зато он всегда мог рассчитывать на помощь «своих». Человек, потерявший «свое» место, как правило, опускался на дно и был обречен на нищету.
Из-за усиливающейся рыночной конкуренции с каждым годом «изгоев» становилось все больше. Массы людей (разорившиеся ремесленники, крестьяне, торговцы) теряли свое унаследованное от предков место в жизни; миллионы добровольно или вынужденно срывались с насиженных мест и ехали в города, в другие страны и даже на другие континенты в поисках лучшей жизни. То, на что прежде решались лишь немногие герои и авантюристы, стало нормой.
«Средний» европеец начала 20 века имел больше свободы выбора, чем его прадед, но гораздо меньше уверенности в завтрашнем дне. И очень многие (едва ли не большинство) с тоской вспоминали «старые, добрые времена», когда у каждого человека было среди людей «положенное» ему место, когда община, цех, государь, государство защищали его и направляли его жизнь».
Начнем с того, что Японию мы не понимаем. В «западном» мире (к которому мы, безусловно, относимся) тех, кто ее понимает, вероятно, считанные единицы. Эта страна до сих пор очень «закрытая» от любых иностранцев, они там просто не выживают долго. А тот, кто самонадеянно считает, что он Японию «понял», тот наверняка ошибается — и постоянно делает неверные прогнозы.
Например, поражает способность японцев «на лету» схватывать господствующие в «западном» мире идеи и тут же применять их у себя, готовность идти «в ученики» к обогнавшим их народам. До европейцев образцом для японцев был Китай, а с середины 19 века таким непререкаемым авторитетом, объектом для подражания, копирования даже стал Запад. Трудно назвать другой крупный народ с непрерывной тысячелетней историей, который бы вел себя подобным образом.
Страна за век изменялась дважды, причем изменялась круто, радикально — и с немалой для себя пользой. Но при этом, если для европейцев в ходе их грандиозных перемен менялся весь строй жизни десятков миллионов людей, менялись вкусы, привычки, понятия о красоте, даже господствующий тип характеров, то японцы при этом, казалось, не менялись вовсе.
«Наверху» мог быть император, диктатура генералов или демократия, вокруг могло господствовать натуральное хозяйство или развитая рыночная экономика — японец оставался прежним. Он чувствовал себя членом клана, который отвечает за его личную успешность, он был защищен от любых внешних неожиданностей, его продвижение по службе зависело не столько от его личных качеств, сколько от выслуги лет. Характерная традиционная привычка «не высовываться» сохранилась в целости за одним исключением — надо было очень хорошо сдать школьный или вузовский экзамен, чтобы попасть в солидную фирму, после чего можно считать, что «встал на эскалатор» — дальнейшая судьба работника определилась чуть ли не до смерти.
Япония, таким образом, избежала мучительных корчей, охвативших Европу при сломе традиционного общества, начавшемся во времена промышленного переворота. После войны страна попала в чрезвычайно благоприятные внешние условия — не надо было тратиться на вооружения, открылся огромный рынок для воюющих рядом, в Корее, а потом во Вьетнаме американцев, дешево стоившие западные технологии, дешевое сырье и топливо, дешевая и чрезвычайно добросовестная рабочая сила и — умная и дальновидная политика послевоенных правительств.
Бешеный экономический рост привел к такому накоплению капиталов, что им уже стало тесно внутри страны, и их излишки потекли по миру. Японские компании начали активно скупать бизнесы и недвижимость в США и Европе, чем поначалу вызвали в этих странах настоящую панику: «Эти японцы у нас тут все скупят!» Но довольно скоро тревоги улеглись. Выяснилось, что, когда сами японцы брались управлять купленными компаниями, дела у них начинали идти хуже, чем у конкурентов. Оторвавшись от родной «управляемой» конкуренции, конкуренции настоящей, свободной, они не выдерживали. Японский принцип продвижения работников (выдвижение за выслугу лет, а не по способностям) здесь был минусом, а не плюсом, как на родине. И постепенно компании, накачанные японскими деньгами, превращались в обычные для западных экономик бизнесы с западным менеджментом и с западными же методами работы.
За все надо платить. За рост в благоприятные десятилетия Япония начала расплачиваться в 90-е годы. Слишком дорого стало закупать технологии «со стороны», вздорожало сырье и топливо, слишком дорого стала стоить отечественная рабочая сила. Из очередного экономического кризиса конкуренты сумели выйти в очередной раз обновленными, а Япония преодолеть его не сумела. Темпы экономического роста стали «нулевыми». Контролируемые правительством банки стали выдавать японским бизнесам ссуды на развитие под ничтожные проценты, а затем и вовсе стали предлагать беспроцентные кредиты — ничего не помогало, рост производства не возобновился.
Причем, экономический рост Японии застыл в точке, которая характеризовалась самой большой в мире почасовой оплатой труда и… 65% процентами его производительности по сравнению с американским уровнем.
Япония очень высокоразвитая страна, и беспокоиться за ее судьбы, наверное, не стоит. Но о мировом лидерстве стране буддистской культуры можно забыть.
Япония — пожалуй, наиболее яркий пример вхождения в индустриальную и даже постиндустриальную цивилизацию страны либеральной, демократической, но лишенной традиций индивидуализма.
P.S. Перечитайте, пожалуйста, первый абзац…
НОСТАЛЬГИЯ — тоска по прошлому. Тосковать можно потому, что раньше, при прежних порядках, тебе было хорошо, а теперь, когда всё перевернулось, ты никак не найдешь себе места в новой жизни. Но ностальгию по прошлому испытывают и те, кому прежние порядки были невыносимы, которым лучше живется именно сейчас, но ведь тогда они были молоды, красивы, здоровы и всё у них было впереди. Но самая острая ностальгическая боль — по оставленной родине, ломающая и самых благополучных эмигрантов.
ЕВРОПЕЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Николай Гоголь, писатель:
«Как весело и любо жить в самом сердце Европы, где, идя, подымаешься выше, чувствуешь, что член великого всемирного сообщества!»
Виктор Гюго, французский писатель, 1872 год:
«Мы добьемся создания великих Соединенных Штатов Европы…
Мы добьемся родины без границ, торговли без таможен, передвижения без преград, истины без догм»
Уинстон Черчилль, 1946 год:
 «Мы должны создать что-то вроде Соединенных Штатов Европы… То, что я сейчас вам скажу, повергнет вас в изумление. Первым шагом в сторону создания европейской семьи должно стать партнерство между Францией и Германией. … Не может быть возрождения Европы без духовно великой Франции и духовно великой Германии. Структура Соединенных Штатов Европы, если она будет создана должным образом, должна быть такой, что материальная сила каждой отдельной страны не будет иметь особого значения. Малые нации значат ничуть не меньше, чем большие, и заслуживают уважения к себе своим вкладом в общее дело…
«Мы должны создать что-то вроде Соединенных Штатов Европы… То, что я сейчас вам скажу, повергнет вас в изумление. Первым шагом в сторону создания европейской семьи должно стать партнерство между Францией и Германией. … Не может быть возрождения Европы без духовно великой Франции и духовно великой Германии. Структура Соединенных Штатов Европы, если она будет создана должным образом, должна быть такой, что материальная сила каждой отдельной страны не будет иметь особого значения. Малые нации значат ничуть не меньше, чем большие, и заслуживают уважения к себе своим вкладом в общее дело…
Однако я должен вас предупредить. Времени, возможно, очень мало. Сейчас у нас есть передышка. Пушки молчат. Бои прекратились, но опасности не исчезли. Чтобы нам удалось создать Соединенные Штаты Европы, или как там они будут называться, мы должны начинать уже сегодня»
Хосе Ортега-и-Гассет, испанский философ:
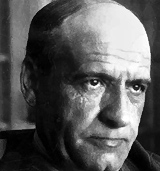 «Европейцы неспособны жить, если они не захвачены каким-то великим связующим замыслом. Когда его нет, они опускаются, обмякают, поддаются душевной усталости. Нечто подобное происходит уже сейчас. Те единства, что до сих пор именовались нациями, приблизительно век назад достигли своего апогея. С ними нечего больше делать, кроме одного – преодолеть их. Сегодня это уже только прошлое, которое копится под ногами европейца, обступает, угнетая и отравляя его. … Национальные государства, с их когда-то вольной атмосферой открытости и свежести, обернулись захолустьем и превратились в «интерьер».
«Европейцы неспособны жить, если они не захвачены каким-то великим связующим замыслом. Когда его нет, они опускаются, обмякают, поддаются душевной усталости. Нечто подобное происходит уже сейчас. Те единства, что до сих пор именовались нациями, приблизительно век назад достигли своего апогея. С ними нечего больше делать, кроме одного – преодолеть их. Сегодня это уже только прошлое, которое копится под ногами европейца, обступает, угнетая и отравляя его. … Национальные государства, с их когда-то вольной атмосферой открытости и свежести, обернулись захолустьем и превратились в «интерьер».
Все ощущают необходимость новых основ жизни. Но некоторые… пытаются спасти положение, искусственно усугубляя и доводя до крайности именно отжившую основу. … И так происходило всегда. Последний жар дольше гаснет. Последний вздох – самый глубокий. Границы перед отмиранием болезненно воспаляются – и военные, и экономические.
Но всякий национализм – тупик. Метя в завтрашний день, упираются в стену. Здесь путь обрывается и не ведет никуда. Национализм – это шараханье в сторону, противоположную национальному началу»
Юрий Каграманов, публицист, 1993 год:
«Оставаясь на прежнем месте, границы делаются не только прозрачными, но и все более призрачными; одна береговая линия сохраняет незыблемую четкость – вечный контур, внутри которого складывается какая-то новая, незнакомая Европа.
Это Европа, охладевшая к национальной идее, без которой ее еще совсем недавно трудно было помыслить.
Два столетия без малого национализм… был воздухом, которым все дышали. …
Между прочим, в России появившийся у европейца косой взгляд на «иноплеменных» весьма часто относили почему-то только на свой счет. Но вот что любопытно: … «они», западные европейцы, друг друга зачастую не любят еще больше. В самом деле, если бы тогдашнего [вторая половина 19 века] немца спросили, кого он больше не любит, он скорее всего ответил бы: француза. И тем более француз (особенно после 1870 года) своим «любимым врагом» назвал бы немца, а отнюдь не русского. …
Естественно, что строительство объединенной Европы началось с этих двух стран – Франции и Германии. Люди, возглавившие дело франко-немецкого примирения, шли на подвиг, без преувеличения, равный подвигам Геракла. Что их усилия не пропали даром, лучше всего говорит следующий факт: по данным периодически проводимых опросов, молодые французы и молодые немцы больше доверяют теперь друг другу, чем своим соотечественникам, принадлежащим к старшим поколениям. Вещь, совершенно невозможная еще каких-то лет тридцать назад!»
Евгений Трифонов, историк, 1999 год:
«Право наций на самоопределение – наследие Версаля и Второй мировой войны. Пора также отказаться от наследия большевистского – идеи приоритета прав наций над правами человека… Тогда можно будет решать межгосударственные и межнациональные конфликты не на основе чьих бы то ни было корыстных интересов, не потакая фанатикам, помешавшимся на расовом и национальном превосходстве, а исходя из одного безусловного права каждого человека: быть самим собой и при этом быть защищенным законами того государства, гражданином которого он является»
Иосиф Сталин, 1952 год:
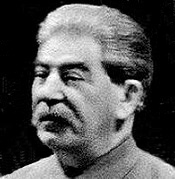 «Раньше буржуазия считалась главой нации, она отстаивала права и независимость нации, ставя их «превыше всего». Теперь не осталось и следа от «национального принципа»… Знамя национальной независимости и национального суверенитета выброшено за борт. Нет сомнения, что это знамя придется поднять вам, представителям коммунистических и демократических партий, и понести его вперед, если хотите быть патриотами своей страны, если хотите стать руководящей силой нации»
«Раньше буржуазия считалась главой нации, она отстаивала права и независимость нации, ставя их «превыше всего». Теперь не осталось и следа от «национального принципа»… Знамя национальной независимости и национального суверенитета выброшено за борт. Нет сомнения, что это знамя придется поднять вам, представителям коммунистических и демократических партий, и понести его вперед, если хотите быть патриотами своей страны, если хотите стать руководящей силой нации»
Константин Леонтьев, философ, конец 19 века:
 «Необходимо помнить, что очень многие в Европе желают слияния всех прежних государств Запада в одну федеративную республику; многие, не особенно даже желающие этого, верят, однако в такой исход, как в неизбежное зло. …
«Необходимо помнить, что очень многие в Европе желают слияния всех прежних государств Запада в одну федеративную республику; многие, не особенно даже желающие этого, верят, однако в такой исход, как в неизбежное зло. …
Я полагаю: наш долг – беспрестанно думать о возможности, по крайней мере, попыток к подобному слиянию…
И при этой мысли относительно России представляются немедленно два исхода: или 1) она должна и в этом прогрессе подчиниться Европе, или 2) она должна устоять в своей отдельности?
Если ответ русских людей на эти два вопроса будет в пользу отдельности, то что же следует делать?
Надо крепить себя, меньше думать о благе и больше о силе. Будет сила, будет и кой-какое благо, возможное. …
Так или иначе, для России нужна внутренняя сила, нужна крепость организации, крепость духа дисциплины.
Если новый федеративный Запад будет крепок, нам эта дисциплина будет нужна, чтобы защитить от натиска его последние охраны нашей независимости, нашей отдельности.
Если Запад впадет в анархию, нам нужна дисциплина, чтобы помочь самому этому Западу, чтобы спасать и в нем то, что достойно спасения, то именно, что сделало его величие, Церковь какую бы то ни было, государство, остатки поэзии, быть может… и самую науку!.. (Не тенденциозную, а суровую, печальную!)»
Хосе Ортега-и-Гассет, испанский философ, 20-е годы 20 века:
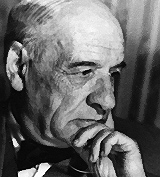 «Ума не приложу, откуда только берутся во всякое время, при всяком режиме эти несгибаемые…. До каких пор они будут загромождать нашу литературу своими толстенными томами на предмет испанского духа? Читать эти кирпичи, конечно, никто не станет, да и не затем, думаю, они писаны, а вот соорудить из них стену наподобие Великой Китайской можно, чем и занимается эта странная порода… Очень уж подозрителен этот священный ужас перед воображаемой утратой национальной самобытности. Так истеричкам, тайно жаждущим распроститься со своей невинностью, повсюду мерещатся опасности и насильники.
«Ума не приложу, откуда только берутся во всякое время, при всяком режиме эти несгибаемые…. До каких пор они будут загромождать нашу литературу своими толстенными томами на предмет испанского духа? Читать эти кирпичи, конечно, никто не станет, да и не затем, думаю, они писаны, а вот соорудить из них стену наподобие Великой Китайской можно, чем и занимается эта странная порода… Очень уж подозрителен этот священный ужас перед воображаемой утратой национальной самобытности. Так истеричкам, тайно жаждущим распроститься со своей невинностью, повсюду мерещатся опасности и насильники.
Сильной индивидуальности недосуг размениваться на пустые страхи – она не боится растерять себя, поддавшись влиянию. Более того, она нисколько не сомневается, что все влияния растворятся в ней без остатка, не разрушив, но лишь обогатив ее. У сильной индивидуальности завидный аппетит – она повсюду отыщет себе пропитание и все пойдет ей впрок. Так она растет, крепнет, развивается…
Давние и нерушимые традиции испанского почвенничества… свидетельствуют, что в глубинах нашего национального сознания тлеет огонек недовольства собой и бередит раны.
Если тебя так сильно заботит твоя индивидуальность, значит в глубине души ты сознаешь, что она ущербна… И почвенничество – всего лишь поза, призванная утаить слабину…
До каких же пор Испания будет страдать этой детской манией величия?»
Виктор Черномырдин, российский политик, 2000 год:
«Россия – это континент, и нам нельзя тут нас упрекать в чем-то. А то нас одни отлучают от Европы, вот, и Европа объединяется и ведет там какие-то разговоры. Российско-европейская часть – она больше всей Европы вместе взятая в разы! Чего это нас отлучают?! Европа – это наш дом, между прочим…»
ИСПАНИЯ И РОССИЯ
Кронид Любарский, публицист:
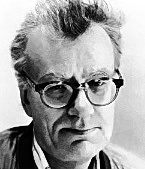 «Испания и Россия – два противоположных края Европы. Как Россия преградила путь в Европу татаро-монгольской коннице, так и Испания стала барьером на пути расширения арабского халифата. Для обеих наций это не прошло бесследно и привкус Востока до сих пор ощущается и в той, и в другой культуре. Русские после падения Византии почувствовали себя главной опорой православия, противостоявшего «латинской вере», а испанцы позднее остались в своем католическом изоляте практически одни против реформационной Европы. Только испанцы и русские сумели остановить Наполеона. Внутреннее развитие обеих стран также демонстрирует много общих черт. Испанский абсолютизм и российское самодержавие, сходными путями идущие к упадку. Имперская экспансия за моря в Испании и на восток в России. Злокачественное развитие коррумпированной демократии. Пароксизмы революций и, конечно, франкизм и большевизм, умудрившиеся, наконец, столкнуться в прямом сражении»
«Испания и Россия – два противоположных края Европы. Как Россия преградила путь в Европу татаро-монгольской коннице, так и Испания стала барьером на пути расширения арабского халифата. Для обеих наций это не прошло бесследно и привкус Востока до сих пор ощущается и в той, и в другой культуре. Русские после падения Византии почувствовали себя главной опорой православия, противостоявшего «латинской вере», а испанцы позднее остались в своем католическом изоляте практически одни против реформационной Европы. Только испанцы и русские сумели остановить Наполеона. Внутреннее развитие обеих стран также демонстрирует много общих черт. Испанский абсолютизм и российское самодержавие, сходными путями идущие к упадку. Имперская экспансия за моря в Испании и на восток в России. Злокачественное развитие коррумпированной демократии. Пароксизмы революций и, конечно, франкизм и большевизм, умудрившиеся, наконец, столкнуться в прямом сражении»
Хосе Ортега-и-Гассет, испанский философ, 20-е годы:
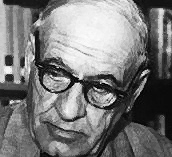 «Обреченным, корчащимся в агонии больным представляется заезжему иностранцу Испания, за исключением разве что отдаленных медвежьих углов. Вся Испания, от моря до моря… – сегодня только руины и более ничего.
«Обреченным, корчащимся в агонии больным представляется заезжему иностранцу Испания, за исключением разве что отдаленных медвежьих углов. Вся Испания, от моря до моря… – сегодня только руины и более ничего.
Наши же соотечественники, пересекая Пиренеи, первым делом изумляются тому, что за границей, оказывается, все в полной исправности. Едут и удивляются тому, что дома не обшарпаны, что черепица на крышах цела, а не зияет прорехами, заросшими бурьяном; что двери не сорваны с петель, и оконные рамы пригнаны, как им полагается. А заброшенных домов и вовсе не видно. В вагонах, в конторах, во всяком присутственном месте или гостинице двери не скрипят, окна благополучно закрываются, все шпингалеты на месте…
У нас же дома, а в особенности в провинции, поди сыщи хоть что-нибудь исправное! Все доведено до такого жалкого состояния…»
Даниэль Сампер, английский публицист:
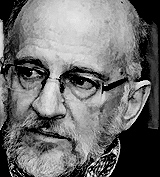 «Cara al sol – «Лицом к солнцу» – так называется гимн фашистской Испании, который сегодня, спустя 20 лет после смерти диктатора Франко, поют, уединившись в ванной комнате, лишь страдающие ностальгией старцы. Однако именно эти слова во многом объясняют чрезвычайные перемены, произошедшие в Испании за последние полвека. …
«Cara al sol – «Лицом к солнцу» – так называется гимн фашистской Испании, который сегодня, спустя 20 лет после смерти диктатора Франко, поют, уединившись в ванной комнате, лишь страдающие ностальгией старцы. Однако именно эти слова во многом объясняют чрезвычайные перемены, произошедшие в Испании за последние полвека. …
С 1936 по 1939 год испанцы вели кровопролитную гражданскую войну, которая закончилась тем, что власть захватил Франко и удерживал ее в течение 35 лет… Пока испанцы распевали «Cara al sol», во Франции, Италии и Англии закладывались основы экономического бума, который наступил в середине 1950-х гг.
Сначала Испания закрыла все двери и подозрительно относилась ко всем иностранцам. Немногих… привлекала отсталая страна, которой правил старый друг Адольфа Гитлера. В 1959 году руководство Испании пришло к выводу, что необходимо оживить экономику, принять ряд мер по индустриализации традиционно сельскохозяйственной страны. Одной из таких мер стала политика открытых дверей.
Новая стратегия требовала приспособления к новым болезненным реалиям. В открывшиеся двери побежали из страны миллионы испанцев… С 1961 по 1973 год более миллиона испанцев получили официальное разрешение эмигрировать в поисках работы. Большинство посылало своим семьям часть заработка… Каждое лето европейские поезда заполняли возвращающиеся домой испанские рабочие, нагруженные бытовой техникой.
Одним из главных компонентов новой политики стало привлечение туристов… «Массированный наплыв иностранцев в определенном смысле ослабил традиционную мораль и обычаи… Несмотря на строгую цензуру и контроль за киноэкранами и газетами, правительству не удалось избежать определенного интеллектуального сдвига» [«Краткая история Испании»]»;
«Для провинциальной и недоверчивой страны это было грубым пробуждением. …
Светловолосые туристы принесли с собой новые концепции времени и экономических отношений. «Испанцам, привыкшим измерять время в часах, вдруг пришлось измерять его в секундах», – пишет английский журналист… Понадобились рабочие руки в отелях и ресторанах. В 1971 году в 90 случаях из ста нервными расстройствами в провинции Малага страдали молодые крестьяне, которые не смогли выдержать смену плуга на поднос официанта. В результате в центральной больнице Малаги было открыто отделение, известное под названием «отделение официантов».
Роберт Скидельски, английский экономист и политолог:
«В 1950 году Польша и Испания имели приблизительно одинаковый доход на душу населения. Но если в Польше этот показатель за период с 1955 по 1988 год увеличился с 775 до 1860 долларов, то в Испании за тот же период он вырос с 561 до 7740 долларов»
Страны Запада в годы «холодной войны»
Главным «сюжетом» послевоенной истории Европы стало осуществление давней мечты, долго казавшейся утопией, – мечты о европейском единстве. Но путь к нему оказался гораздо более долгим и трудным, чем надеялись энтузиасты «Соединенных Штатов Европы».
Послевоенная Западная Европа состояла из пестрого конгломерата государств, имевших между собой больше различий, чем сходства. За Пиренеями – в Испании и Португалии – сохранили свою власть благоразумно не ввязавшиеся в войну диктаторы; на юге Италии и в Греции еще царила доиндустриальная эпоха, и нищие крестьяне готовы были доверить свою судьбу коммунистам и анархистам. В Швеции бессменно правившие со времен Великой депрессии социал-демократы методично добивались не только комфортной жизни для всех граждан, но и их имущественного равенства; Австрия до 1955 года оставалась поделенной на оккупационные зоны, и в Вене стояли советские войска; Финляндия, избежавшая оккупации, изо всех сил старалась, чтобы больше никогда не ссориться со своим опасным соседом – СССР; отношение соседей к Западной Германии много лет после разгрома нацистского Рейха оставалось весьма настороженным; взаимоотношения Англии и Франции были далеки от горячей дружбы – традиционное великодержавное соперничество хотя и потеряло всякий практический смысл, но еще не было «сдано в архив»… Объединяла Европу только очень ощутимая в первое послевоенное десятилетие зависимость от США и потенциальная «коммунистическая угроза» с востока.
Примирение бывших врагов. В начале 50-х годов Германия и Италия экономически уже оправились от военного разгрома. В обеих странах правили христианские демократы – сторонники прочного союза с США и европейского единства. Они понимали, что ключ к восстановлению национального достоинства находится не в руках военных или дипломатов – его обеспечивает ежедневный труд миллионов немцев и итальянцев. Если кто-то и испытывал «ультра-патриотические» чувства, подобные тем, что захлестнули Германию и Италию после I Мировой войны, то он предпочитал держать их при себе, не имея шансов найти отклик в сердцах сограждан.
Абсолютное большинство немцев стремились как можно скорее покончить с «проклятым прошлым» и жаждало не национального самоутверждения, а восстановления доверия к своей стране, возвращения ей «доброго имени». Внешняя политика первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра очень точно выражала это общественное настроение. Он всячески демонстрировал стремление немцев стать «добрыми европейцами» и всей своей деятельностью настойчиво доказывал соседям, что бояться Германии больше не надо. Со временем такая политика позволила ФРГ на равных войти в западное сообщество.
Когда началась война в Корее, стратеги в США опасались, что Сталин может воспользоваться «связанностью» американских вооруженных сил в далекой Азии и попытается расширить свою европейскую зону влияния. Поэтому уже в 1950 году американцы начали добиваться того, чтобы ФРГ сформировала сильную армию, которая стала бы «костяком» сухопутных сил НАТО в Европе. Поначалу многие в Европе встретили предложения об усилении Германии в штыки [идея перевооружения и воссоздания сильной армии не вызывала восторга также ни у канцлера, ни у значительной части германского населения], – особенно резкие возражения доносились из Франции. Французские политики поначалу противодействовали каждому шагу союзников, направленному на восстановление германской экономики и равноправных отношений с ФРГ. Лишь под давлением США им пришлось отказаться от мысли «навсегда» ослабить Германию и пойти на примирение со своим «извечным врагом». В 1955 году Западная Германия стала полноправным членом НАТО.
Взаимовыгодным компромиссом закончился давний спор о богатых углем и железной рудой промышленных районах Рура и Саара. Население этих земель было почти стопроцентно немецким, но, как и после I Мировой войны, Франция опасалась их присоединения к Германии и требовала сохранения над ними международного контроля, чтобы предотвратить возможное возрождение германской военной мощи. Канцлер ФРГ Аденауэр понимал, что не только требовать, но и какими бы то ни было дипломатическими путями добиваться возврата этих земель «в обход» Франции нельзя, и единственная разумная политика – уступать французским требованиям, демонстрируя свое миролюбие и стремление к согласию. В 1950 году Аденауэр с готовностью принял французское предложение организовать франко-германское производственное объединение по добыче угля и железной руды и выплавке чугуна и стали – этим он давал понять, что Западная Германия не собирается использовать свое сырьевое превосходство в ущерб Франции, и почвы для опасений нет. В последовавших затем переговорах о статусе Саара Аденауэр также удовлетворил все требования французской стороны, и в результате Саар в 1957 году воссоединился с ФРГ.
Так постепенно старые, конфронтационные методы «выяснения отношений» между европейскими державами, начали уступать место культуре сотрудничества и компромиссов.
Создание Европейского Сообщества. В «Европейское объединение угля и стали» кроме Франции и Германии вошли Италия, Бельгия, Голландия и Люксембург, – и это было вторым (после «плана Маршалла») шагом к объединению Европы. В 1957 году те же шесть стран сделали следующий шаг к интеграции, решившись образовать Европейское Сообщество (ЕС). Замысел заключался в том, чтобы за двенадцать лет создать в Европе «общий рынок», на котором люди, товары, услуги и капиталы могли бы перемещаться так же беспрепятственно, как внутри одного государства. Для выполнения этой задачи требовалось пересмотреть вороха национальных законов и инструкций, уладить тысячи разногласий, согласовать и примирить разные, порой противоположные интересы фермеров, профсоюзов, банкиров, торговцев, государственных служащих…
Ничего подобного в истории прежде не случалось – до сих пор считалось, что объединить большие пространства и разные народы можно только силой. Опыт европейской интеграции был первым примером строго демократического, ненасильственного объединения. Поэтому неудивительно, что процесс оказался очень трудным и долгим.
Главными двигателями европейской интеграции стали страны, потерпевшие поражение в войне, – Германия и Италия. Им было нечего терять и нечем гордиться; их национальный суверенитет (особенно Германии) был в первое послевоенное десятилетие существенно урезан, и в идее единой Европы, не раздираемой соперничающими национализмами, заключалась их главная надежда на достойное будущее. Горячими сторонниками европейского единства были и малые государства, дважды в 20 веке оказавшиеся жертвами столкновений между великими державами, – Бельгия, Нидерланды и Люксембург. Однако для великих держав-победительниц – Великобритании и Франции – отказаться от национального суверенитета ради экономического и политического объединения Европы было гораздо сложнее.
Франция в поисках «национального величия». Самой болезненной проблемой послевоенной Франции стало прощание с колониальной империей. Пытаясь военным путем сохранить свое влияние в Индокитае, Франция втянулась в семилетнюю войну, потратила на нее больше денег, чем получила по «плану Маршалла», потеряла 75 тысяч солдат – и проиграла.
Через два года пришлось уйти и из североафриканских протекторатов Марокко и Туниса. Эти «национальные унижения» заставили французов с удвоенной энергией держаться за свою последнюю крупную колонию – Алжир.
Алжир, в отличие от других заморских владений, официально считался не колонией, а неотъемлемой частью французского государства, одним из его департаментов. Все политики – от крайне правых до коммунистов – были согласны в том, что «без Алжира нет Франции». Там, на другом берегу Средиземного моря, жило более миллиона французов, многие из которых родились и выросли на этой земле и считали ее своей родиной. Они не желали ни уезжать отсюда, ни жить под властью арабов, и готовы были сражаться за «французский Алжир» не только против арабов, но и против правительства метрополии, если бы оно вздумало отказаться защищать их интересы. Поэтому начавшееся после войны движение алжирских арабов за независимость французские власти беспощадно подавляли вооруженной силой, – и скоро Франция увязла в новом жестоком и бесперспективном конфликте. Армия была бессильна справиться с арабскими партизанами, которые устраивали террористические акты, нападали на французов и сотрудничавших с ними «изменников»-арабов; в свою очередь, алжирские французы и слышать не хотели ни о каких переговорах с «сепаратистами», блокируя все попытки центрального правительства найти какой-то выход из затянувшейся бойни.
Война в Алжире в 1958 году чуть не погубила французскую демократию – парламентская республика оказалась бессильна найти выход из тупика, и «спасти нацию» был призван герой недавней войны генерал Шарль де Голль.
Добившись принятия на референдуме новой конституции, вводившей во Франции президентскую республику [прежде президент избирался парламентом и имел незначительные полномочия; по новой конституции он стал избираться всей нацией на семь лет и получил полномочия почти такие же, как у конституционного монарха (это политическое устройство Франции сохраняется и по сей день)], де Голль получил возможность твердой рукой и без помех со стороны парламента проводить последовательный политический курс. Главной его целью было «возрождение величия Франции», вывод страны из того унизительного положения, в котором она оказалась после войны.
Первым делом де Голль разрубил «алжирский узел» – опасаться обвинений в непатриотизме или «национальном предательстве» генералу-герою не приходилось, поэтому он смог пойти на то, что для любого другого стало бы политическим самоубийством – предоставить Алжиру независимость.
Де Голль заявил, что Франция как великая держава должна обязательно обзавестись собственным ядерным оружием – в 1960 году эта программа была выполнена. Обстановка в мире к середине 60-х годов стала спокойнее, «советская угроза» уже не нависала над Европой так, как в первое послевоенное десятилетие, и роль «младшего партнера» США по НАТО казалась генералу недостойной Франции – он запретил американцам держать ядерное оружие на французской территории, а в 1966 году вывел французские вооруженные силы из подчинения натовскому командованию (правда, Франция при этом не вышла из политической организации НАТО, а позже, в 70-е годы, возобновилось и военное сотрудничество). Внешняя политика Франции стала подчеркнуто независимой от США: де Голль демонстративно улучшил отношения с СССР, советовал американцам уйти из Вьетнама и осуждал «израильскую агрессию» против арабов во время «Шестидневной войны» 1967 года.
Отношение генерала к европейской интеграции было сложным. С одной стороны, он стремился обеспечить Франции ведущую, центральную роль в объединяющейся Европе; с другой – категорически возражал против любого ущемления национального суверенитета. Де Голль был глубоко убежден, что полнота власти национальных правительств не должна ограничиваться никакими «евробюрократами». Точка зрения французского президента расходилась с мнениями всех его партнеров по европейскому сообществу, но строить «европейский дом» без Франции было невозможно, и де Голль успешно добивался своего.
Он добился даже того, что все решения в Европейском Экономическом Сообществе стали приниматься только единогласно и каждая страна, охраняя собственные интересы, получила право заблокировать общее решение всех остальных стран-участниц. В результате развитие наднациональных органов «объединенной Европы» в 60-е годы было замедлено. Франция в 60-е годы «заблокировала» и расширение Европейского Сообщества, дважды не допустив вступления туда своей «исторической соперницы» Великобритании. Де Голль мотивировал это тем, что Англия, имевшая слишком тесные отношения с США, станет в ЕС американским «агентом влияния».
Общие интересы, тем не менее, в подавляющем большинстве конкретных случаев перевешивали национальный «эгоизм», и результаты экономической интеграции были впечатляющими: к 1968 году почти все препятствия к свободному передвижению товаров, услуг, рабочей силы и капиталов внутри ЕС были устранены.
Великобритания: традиции и новая реальность. В отличие от Франции, Британия уходила из своих колоний без вооруженной борьбы, планомерно и «цивилизованно»; почти все бывшие колонии добровольно вошли в Британское Содружество – очень свободный политический союз, мало к чему обязывающий своих членов, но дающий им некоторые ощутимые преимущества во взаимоотношениях с бывшей метрополией (британское гражданство, беспошлинная торговля и т. п.). Это мирное прощание с империей, как и недавняя победа в войне, дали англичанам новые основания гордиться собой и своей страной и смягчили разочарование от потери былого статуса мировой державы. Еще одним утешением было то, что новая сверхдержава, США, не была для Британии «чужой»; на американцев можно было смотреть как на возмужавших отпрысков, пришедших на помощь постаревшей и ослабевшей прародине. Все послевоенные британские политики очень стремились сохранить сложившиеся в годы войны «особые отношения» между Англией и США и с готовностью защищали американские позиции перед своими европейскими соседями.
Хотя одним из первых политиков, заговоривших после войны о необходимости создания «Соединенных Штатов Европы», был Уинстон Черчилль, Великобритания в 50-е годы не спешила втягиваться в начавшуюся в Европе экономическую интеграцию. Страна не вступила в Европейское объединение угля и стали, а в 1957 году не проявила интереса и к договору об образовании ЕС. Тесные отношения с континентальными государствами были не в традициях британской политики – гораздо важнее казались связи с заморскими членами Британского Содружества и США.
Единое экономическое пространство ЕС было отгорожено от внешнего мира общими таможенными барьерами, Англия же беспошлинно ввозила многие жизненно необходимые товары (прежде всего, продовольствие) из стран Содружества и США, и отказ от этого свободного импорта грозил ей резким повышением цен на внутреннем рынке. Но, с другой стороны, в 60-е годы экономические успехи европейской «шестерки» стали настолько очевидными, что Великобритания начала активно добиваться членства в ЕС.
Это удалось ей осуществить лишь в 1973 году, и с принятием Великобритании Европейское Сообщество приобрело еще одного «возмутителя спокойствия». Островная Англия была слишком своеобразна, и ее экономические интересы во многом расходились с интересами других.
Например, немногочисленные британские фермеры сто лет работали в условиях жесткой конкуренции со стороны дешевого продовольственного импорта из колоний, и давно приспособились работать без государственной поддержки. Но французские или итальянские крестьяне и фермеры такой суровой школы не проходили и требовали для своего выживания все новых субсидий. На поддержку сельхозпроизводителей уходила львиная доля бюджета Сообщества, – ЕС устанавливало минимально допустимые цены на все сельскохозяйственные товары, и, если рыночные цены опускались ниже установленного уровня, выкупало «излишки» фермерской продукции и, себе в убыток, экспортировало их за пределы Сообщества. Это было выгодно Франции и Италии с их многочисленным сельским населением, англичане же считали, что их взносы в общую казну расходуются зря – на поддержку неэффективного, неконкурентоспособного производства.
В 80-е годы премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер стала играть в судьбе Сообщества ту же роль, которая в 60-е годы принадлежала де Голлю, – она резко возражала против расширения полномочий общеевропейских органов и ущемления национального суверенитета, заявляя, что несовершенные и бюрократизированные органы ЕС не должны быть выше таких отлаженных и проверенных столетиями демократических институтов, как британский парламент. Всячески приветствуя ликвидацию барьеров на пути к свободной торговле, Тэтчер возражала против «слишком поспешного» объединения финансовых систем государств-членов «Общего рынка» и введения единой европейской валюты.
Расширение «европейского дома». Несмотря на многочисленные сложности и разногласия, дело европейской интеграции с каждым десятилетием продвигалось вперед.
В 70-е годы европейская «шестерка» превратилась в «девятку» – кроме Великобритании, в состав ЕС вошли Дания и Ирландия.
В 80-е годы сообщество пополнилось еще тремя новыми членами – к нему присоединились Испания, Португалия и Греция, образовав «Европу двенадцати». Эти страны были бедными, нестабильными и обремененными множеством внутренних проблем, все они лишь в 70-е годы освободились от диктаторских режимов и вступили в Совет Европы, приняв на себя обязательства соблюдать «европейские стандарты» в области прав человека.
Одним из приоритетных направлений политики Сообщества было сближение уровней экономического благосостояния всех вошедших в него стран и регионов. Кроме того, когда страна принимала общеевропейские стандарты в законодательстве и экономической политике, она тем самым гарантировала благоприятные условия для притока капиталов, которые могли свободно перемещаться в рамках ЕС. Поэтому участие в «Общем рынке» давало более бедным странам уникальную возможность преодолеть свою давнюю экономическую отсталость, хотя и ценой ограничения национального суверенитета и соблюдения достаточно жестких общих «правил игры».
Итальянское «экономическое чудо». Наглядным примером выгодности «Общего рынка» для всех его участников стала Италия. В начале 50-х годов казалось, что от Великобритании ее отделяет целая экономическая эпоха. В Европейское объединение угля и стали страна вступила, практически не имея ни того, ни другого – только ради участия в экономическом союзе с более развитыми государствами. Массовая бедность царила даже в промышленно развитых северных районах, не говоря уже о нищем сельскохозяйственном юге, и итальянцы десятками тысяч уезжали искать лучшей доли в более благополучные страны. Через тридцать лет членства в ЕС Италия уже сама стала «землей обетованной» для эмигрантов из Югославии, Турции и т. д. От ее былой отсталости не осталось и следа – и это несмотря на то, что стабильную и эффективную демократию внутри страны итальянцам создать так и не удалось. На протяжении сорока послевоенных лет правительства сменялись, как в калейдоскопе; то и дело вспыхивали скандалы, связанные с коррупцией высших государственных чиновников; но все эти политические передряги не оказывали заметного влияния на экономику и жизнь большинства населения. К середине 80-х годов «общеевропейский дом» еще был далек от завершения. Политическая интеграция, т. е. создание полномочных наднациональных органов, только начиналась, и правительства отдельных государств по-прежнему нередко пользовались своим правом вето. Европарламент, депутаты которого в 1979 году были впервые избраны прямым голосованием, еще не имел настоящих законодательных полномочий; дебаты о возможности и желательности создания единой европейской валюты вызывали во всех странах бурные страсти, но уже было ясно, что решение всех этих проблем – лишь вопрос времени.
Читать дальше:
Сталинский тоталитаризм был вовсе не похож ни на изначальный «социалистический проект» Маркса, ни на «социализм», путь к которому вдохновлял Ленина. Думается, что и тот, и даже другой сталинскому государству искренне ужаснулись бы. Но в истории нашей страны был период, когда была сделана попытка «вернуться к истокам». Эту попытку предпринял Никита Хрущев.
Собственно, у него не было выбора — после Сталина страна была вымотана до предела, до грани физического выживания даже неприхотливых советских людей. Но осознание этой реальности в данном случае соединилось еще и с искренней верой Никиты Сергеевича в коммунистическую идею.
Он был уверен, что главное в сталинские времена сделано — деревня коллективизирована, современная индустрия построена, церковь сломлена, социалистическая культура развивается, «новый человек», в основном, воспитан. Только во главе этого совсем негодный человек стоял, с плохим характером, жестокий, страшный. А поставить хорошего лидера, да повернуть всю систему на благо трудящегося человека — и ух, как заживем!.. И начал поворачивать.
Была поставлена задача развязать инициативу людей, дать им самостоятельность и за счет этого завалить торговлю товарами для населения.
Раньше у колхозов машин практически не было, все они были сосредоточены на государственных машино-тракторных станциях. Хрущев эти МТС ликвидировал, а всю их сельхозтехнику передал колхозам. В результате деревенские пустыри повсеместно превратились в свалки этой ломанной техники. Думали, что дело тут в необеспеченности колхозов ремонтными мастерскими, но, когда ремонт был налажен, положение изменилось мало…
Колхозников освободили от «второго крепостного права» и стали выдавать им такие же, как и у горожан, паспорта. Крестьяне тут же стали широко пользоваться своей возможностью перемещения для переселения в города — туда хлынули миллионы и миллионы переселенцев, не желавших больше работать в колхозах даже за возросшую плату.
Широкая распашка новых, целинных земель позволила ослабить государственный контроль за колхозами на старых землях, однако воспользовались они этим своеобразно, максимально сократив посевы. Целины, однако, хватило ненадолго, и пришлось вновь возвращаться к жестким приказам — что сеять, как пропалывать, какие удобрения вносить, когда собирать урожай и сколько чего сдавать государству…
В промышленности дела обстояли похожим образом. Из отлаженной сталинской системы стимулирования труда Хрущев, отменив полувоенное трудовое законодательство, вынул, как оказалось, ее ключевой элемент — страх перед драконовским наказанием за любое нарушение трудовой дисциплины. Отменить-то он это законодательство отменил, а материальные стимулы к работе, на которые Хрущев надеялся, так по-настоящему и не заработали…
Взялся улучшать управление страной, но уперся Никита Сергеевич все в тот же тупик — никакие системы управления тоталитарным государством не работают без страха. В данном случае речь шла о страхах перед знаменитыми ночными «посещениями» агентами НКВД чиновников любого ранга. Этот страх ушел — и эффективность работы чиновников-управленцев пошла на спад. Способа заставить их работать в полную силу Хрущев, несмотря на бесчисленные «перетряски аппарата», так и не сумел.
Единственной отраслью, которая по-прежнему работала более, чем результативно, был военно-промышленный комплекс (ВПК). Наиболее зримым проявлением этой результативности стал запуск первого спутника и полет в космос Гагарина. Эти публичные запуски повергли в шок весь Запад, который правильно их воспринял, как «гражданское» проявление советской ракетно-ядерной программы.
Однако, мы до сих пор не можем оценить эффективности работы этого комплекса отраслей (затраты/результат). Знаем лишь, что в нем был сосредоточен весь цвет советских ученых, инженеров и рабочих, что поступление в пищевой, педагогический или холодильный институты, а не в вузы «военного профиля», было уделом лишь «троечников», что средства госбюджета, выделяемые ВПК, не шли ни в малейшее сравнение с отраслями «гражданскими».
Сталинская система организации промышленности была создана для ВПК и таковой оставалась вплоть до своего развала вместе со всем СССР. И она продолжала поглощать труд всего общества во все возрастающих масштабах даже тогда, когда насущной надобности в ее продукции уже не было, а лидер государства объявлял об острой необходимости резкого увеличения производства товаров для населения.
И если, например, американское вложение каждого доллара в свой ВПК, в результате использования разрабатываемых там технологий на «гражданке», давало в итоге 5-6 долларов прибыли, то вложение рубля в ВПК советское пропадало там бесследно и на выходе давало только ракеты, танки, самолеты и прочие военные «железки».
Но время правления Хрущева, будучи чередой проблем, которые он решал в силу своего разумения, тем не менее, вовсе не было временем сплошных неудач и провалов. По сравнению со сталинскими временами отдача от колхозов увеличилась. А в промышленности в его распоряжении оставался еще большой — и последний — резерв роста. Это был многомиллионный приток деревенских жителей в промышленные центры. И под них строились новые заводы и фабрики, что давало ощутимый прирост производства. Но к концу его правления этот резерв иссяк, «расширяться» экономика больше не могла.
Теперь надо было научиться сделать работу на имеющихся мощностях более эффективной и качественной. Но как это сделать, Хрущев не знал. В его оправдание можно лишь заметить, что этого не знал никто — и так и не узнал до самого конца СССР.
И, кстати, весьма любопытные тут вопросы возникают:
Почему при Сталине продовольствие из страны экспортировалось, а при Хрущеве его стали ввозить из-за границы?
Хрущев оставил страну в гораздо лучшем состоянии, чем ее принял. Чем же можно объяснить, что отношение к нему в самых широких слоях населения на протяжении многих последующих лет было в основном насмешливо-недоброжелательным?