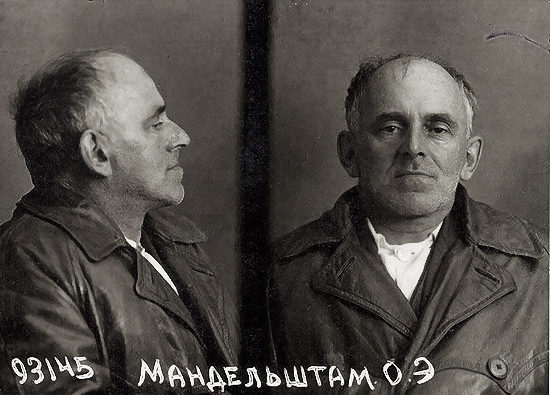Осип Мандельштам
***
Звук осторожный и глухой
Плода, сорвавшегося с древа,
Среди немолчного напева
Глубокой тишины лесной…
***
Сусальным золотом горят
В лесах рождественские елки,
В кустах игрушечные волки
Глазами страшными глядят.
О, вещая моя печаль,
О, тихая моя свобода
И неживого небосвода
Всегда смеющийся хрусталь!
***
Невыразимая печаль
Открыла два огромных глаза,
Цветочная проснулась ваза
И выплеснула свой хрусталь.
Вся комната напоена
Истомой – сладкое лекарство!
Такое маленькое царство
Так много поглотило сна.
Немножко красного вина,
Немного солнечного мая, –
И, тоненький бисквит ломая,
Тончайших пальцев белизна.
***
Воздух пасмурный влажен и гулок;
Хорошо и нестрашно в лесу.
Легкий крест одиноких прогулок
Я покорно опять понесу.
И опять к равнодушной отчизне
Дикой уткой взовьется упрек, –
Я участвую в сумрачной жизни
И невинен, что я одинок!
Выстрел грянул. Над озером сонным
Крылья уток теперь тяжелы,
И двойным бытием отраженным
Одурманены сосен стволы.
Небо тусклое с отсветом странным –
Мировая туманная боль –
О позволь мне быть также туманным
И тебя не любить мне позволь.
***
Образ Твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать.
«Господи!» – сказал я по ошибке,
сам того не думая сказать.
Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди.
Впереди густой туман клубится,
И пустая клетка позади.
***
От легкой жизни мы сошли с ума.
С утра вино, а вечером похмелье.
Как удержать напрасное веселье,
Румянец твой, о пьяная чума?
В пожатьи рук мучительный обряд,
На улицах ночные поцелуи,
Когда речные тяжелеют струи,
И фонари как факелы горят.
Мы смерти ждем, как сказочного волка,
Но я боюсь, что раньше всех умрет
Тот, у кого тревожно-красный рот
И на глаза спадающая челка.
ПЕТЕРБУРГСКИЕ СТРОФЫ
Николаю Гумилеву
Над желтизной правительственных зданий
Кружилась долго мутная метель,
И правовед опять садится в сани,
Широким жестом запахнув шинель.
Зимуют пароходы. На припеке
Зажглось каюты толстое стекло.
Чудовищна, как броненосец в доке,-
Россия отдыхает тяжело.
А над Невой — посольства полумира,
Адмиралтейство, солнце, тишина!
И государства жесткая порфира,
Как власяница грубая, бедна.
Тяжка обуза северного сноба —
Онегина старинная тоска;
На площади Сената — вал сугроба,
Дымок костра и холодок штыка…
Черпали воду ялики, и чайки
Морские посещали склад пеньки,
Где, продавая сбитень или сайки,
Лишь оперные бродят мужики.
Летит в туман моторов вереница;
Самолюбивый, скромный пешеход —
Чудак Евгений — бедности стыдится,
Бензин вдыхает и судьбу клянет!
***
Отравлен хлеб и воздух выпит.
Как трудно раны врачевать!
Иосиф, проданный в Египет,
Не мог сильнее тосковать!
Под звездным небом бедуины,
Закрыв глаза и на коне,
Слагают вольные былины
О смутно пережитом дне.
Не много нужно для наитий:
Кто потерял в песке колчан,
Кто выменял коня – событий
Рассеивается туман;
И если подлинно поется
И полной грудью – наконец,
Всё исчезает: остается
Пространство, звезды и певец!
***
«Мороженно!» Солнце. Воздушный бисквит.
Прозрачный стакан с ледяною водою.
И в мир шоколада с румяной зарею,
В молочные Альпы мечтанье летит.
Но, ложечкой звякнув, умильно глядеть,
Чтоб в тесной беседке, средь пыльных акаций,
Принять благосклонно от булочных граций
В затейливой чашечке хрупкую снедь…
Подруга шарманки, появится вдруг
Бродячего ледника пестрая крышка –
И с жадным вниманием смотрит мальчишка
В чудесного холода полный сундук.
И боги не ведают – что он возьмет:
Алмазные сливки иль вафлю с начинкой?
Но быстро исчезнет под тонкой лучинкой,
Сверкая на солнце, божественный лед.
***
Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладою когда-то поднялся.
Как журавлиный клин в чужие рубежи, –
На головах царей божественная пена, –
Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?
И море, и Гомер – все движется любовью.
Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,
И море Черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.
***
Обиженно уходят на холмы,
Как Римом недовольные плебеи,
Старухи-овцы – черные халдеи,
Исчадье ночи в капюшонах тьмы.
Их тысячи – передвигают все,
Как жердочки, мохнатые колени,
Трясутся и бегут в курчавой пене,
Как жеребья в огромном колесе.
Им нужен царь и черный Авентин,
Овечий Рим с его семью холмами,
Собачий лай, костер под небесами
И горький дым жилища и овин.
На них кустарник двинулся стеной,
И побежали воинов палатки,
Они идут в священном беспорядке.
Висит руно тяжелою волной.
***
На розвальнях, уложенных соломой,
Едва прикрытые рогожей роковой,
От Воробьевых гор до церкови знакомой
Мы ехали огромною Москвой.
А в Угличе играют дети в бабки,
И пахнет хлеб, оставленный в печи.
По улицам меня везут без шапки,
И теплятся в часовне три свечи.
Не три свечи горели, а три встречи –
Одну из них сам Бог благословил,
Четвертой не бывать, а Рим далече, –
И никогда он Рима не любил.
Ныряли сани в черные ухабы,
И возвращался с гульбища народ.
Худые мужики и злые бабы
Переминались у ворот.
Сырая даль от птичьих стай чернела,
И связанные руки затекли;
Царевича везут, немеет страшно тело –
И рыжую солому подожгли.
ДЕКАБРИСТ
«Тому свидетельство языческий сенат,-
Сии дела не умирают»
Он раскурил чубук и запахнул халат,
А рядом в шахматы играют.
Честолюбивый сон он променял на сруб
В глухом урочище Сибири,
И вычурный чубук у ядовитых губ,
Сказавших правду в скорбном мире.
Шумели в первый раз германские дубы,
Европа плакала в тенетах,
Квадриги черные вставали на дыбы
На триумфальных поворотах.
Бывало, голубой в стаканах пунш горит,
С широким шумом самовара
Подруга рейнская тихонько говорит,
Вольнолюбивая гитара.
Еще волнуются живые голоса
О сладкой вольности гражданства,
Но жертвы не хотят слепые небеса,
Вернее труд и постоянство.
Все перепуталось, и некому сказать,
Что, постепенно холодея,
Все перепуталось, и сладко повторять:
Россия, Лета, Лорелея.
СУМЕРКИ СВОБОДЫ
Прославим, братья, сумерки свободы,
Великий сумеречный год!
В кипящие ночные воды
Опущен грузный лес тенет.
Восходишь ты в глухие годы —
О солнце, судия, народ.
Прославим роковое бремя,
Которое в слезах народный вождь берет.
Прославим власти сумрачное бремя,
Ее невыносимый гнет.
B ком сердце есть — тот должен слышать, время,
Как твой корабль ко дну идет.
Мы в легионы боевые
Связали ласточек — и вот
Не видно солнца, вся стихия
Щебечет, движется, живет;
Сквозь сети — сумерки густые —
Не видно солнца и земля плывет.
Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий,
Скрипучий поворот руля.
Земля плывет. Мужайтесь, мужи,
Как плугом, океан деля.
Мы будем помнить и в летейской стуже,
Что десяти небес нам стоила земля.
***
Я не искал в цветущие мгновенья
Твоих, Кассандра, губ, твоих, Кассандра, глаз,
Но в декабре — торжественное бденье —
Воспоминанье мучит нас!
И в декабре семнадцатого года
Все потеряли мы, любя:
Один ограблен волею народа,
Другой ограбил сам себя…
Но, если эта жизнь — необходимость бреда,
И корабельный лес — высокие дома —
Лети, безрукая победа —
Гиперборейская чума!
На площади с броневиками
Я вижу человека: он
Волков горящими пугает головнями:
Свобода, равенство, закон!
Касатка, милая Кассандра,
Ты стонешь, ты горишь — зачем
Стояло солнце Александра
Сто лет назад, сияло всем?
Кагда-нибудь в столице шалой,
На скифском празднике, на берегу Невы,
При звуках омерзительного бала
Сорвут платок с прекрасной головы…
***
За то, что я руки твои не сумел удержать,
За то, что я предал соленые нежные губы,
Я должен рассвета в дремучем акрополе ждать.
Как я ненавижу пахучие древние срубы.
Ахейские мужи во тьме снаряжают коня,
Зубчатыми пилами в стены врезаются крепко,
Никак не уляжется крови сухая возня,
И нет для тебя ни названья, ни звука, ни слепка.
Как мог я подумать, что ты возвратишься, как смел!
Зачем преждевременно я от тебя оторвался!
Еще не рассеялся мрак и петух не пропел,
Еще в древесину горячий топор не врезался.
Прозрачной слезой на стенах проступила смола,
И чувствует город свои деревянные ребра,
Но хлынула к лестницам кровь и на приступ пошла,
И трижды приснился мужам соблазнительный образ.
Где милая Троя? где царский, где девичий дом?
Он будет разрушен, высокий Приамов скворешник.
И падают стрелы сухим деревянным дождем,
И стрелы другие растут на земле, как орешник.
Последней звезды безболезненно гаснет укол,
И серою ласточкой утро в окно постучится,
И медленный день, как в соломе проснувшийся вол
На стогнах шершавых от долгого сна шевелится.
***
Когда Психея-жизнь спускается к теням
В полупрозрачный лес, вослед за Персефоной,
Слепая ласточка бросается к ногам
С стигийской нежностью и веточкой зеленой.
Навстречу беженке спешит толпа теней,
Товарку новую встречая причитаньем,
И руки слабые ломают перед ней
С недоумением и робким упованьем.
Кто держит зеркало, кто баночку духов –
Душа ведь женщина, – ей нравятся безделки,
И лес безлиственный призрачных голосов
Сухие жалобы кропят, как дождик мелкий.
И в нежной сутолке, не зная, что начать,
Душа не узнает прозрачные дубравы;
Дохнет на зеркало, и медлит передать
Лепешку медную с туманной переправы.
***
Умывался ночью на дворе –
Твердь сияла грубыми звездами.
Звездный луч, как соль на топоре,
Стынет бочка с полными краями.
На замок закрыты ворота,
И земля по совести сурова, –
Чище правды свежего холста
Вряд ли где отыщется основа.
Тает в бочке, словно соль, звезда,
И вода студеная чернее,
Чище смерть, соленее беда,
И земля правдивей и страшнее.
***
Кому зима – арак и пунш голубоглазый,
Кому душистое с корицею вино,
Кому жестоких звезд соленые приказы
В избушку дымную перенести дано.
Немного теплого куриного помета
И бестолкового овечьего тепла;
Я всё отдам за жизнь – мне так нужна забота –
И спичка серная меня б согреть могла.
Тихонько гладить шерсть и ворошить солому,
Как яблоня зимой в соломе голодать,
Тянуться с нежностью бессмысленно к чужому
И шарить в пустоте, и терпеливо ждать.
Пусть заговорщики торопятся по снегу
Отарою овец, и хрупкий наст скрипит,
Кому зима – полынь и горький дым – к ночлегу,
Кому – крутая соль торжественных обид.
О, если бы поднять фонарь на длинной палке,
С собакой впереди идти под солью звезд,
И с петухом в горшке прийти на двор к гадалке.
А белый, белый снег до боли очи ест.
***
С розовой пеной усталости у мягких губ
Яростно волны зеленые роет бык,
Фыркает, гребли не любит – женолюб,
Ноша хребту непривычна, и труд велик.
Изредка выскочит дельфина колесо
Да повстречается колючий морской ёж,
Нежные руки Европы – берите всё,
Где ты для выи желанней ярмо найдешь.
Горько внимает Европа могучий плеск,
Тучное море кругом закипает в ключ,
Видно, страшит ее вод маслянистый блеск,
И соскользнуть бы хотелось с шершавых круч.
О, сколько раз ей милее уключин скрип,
Лоном широкая палуба, гурт овец,
И за высокой кормою мелькание рыб –
С нею безвесельный дальше плывет гребец!
***
Кто время целовал в измученное темя –
С сыновней нежностью потом
Он будет вспоминать, как спать ложилось время
В сугроб пшеничный за окном.
Кто веку поднимал болезненные веки –
Два сонных яблока больших –
Он слышит вечно шум, когда взревели реки
Времен обманных и глухих.
Два сонных яблока у века властелина
И глиняный прекрасный рот,
Но к млеющей руке стареющего сына
Он, умирая, припадет.
Я знаю, с каждым днем слабеет жизни выдох,
Еще немного – оборвут
Простую песенку о глиняных обидах
И губы оловом зальют.
О глиняная жизнь! О умиранье века!
Боюсь, лишь тот поймет тебя,
В ком беспомощная улыбка человека,
Который потерял себя.
Какая боль – искать потерянное слово,
Больные веки поднимать
И с известью в крови, для племени чужого
Ночные травы собирать.
Век. Известковый слой в крови больного сына
Твердеет. Спит Москва, как деревянный ларь,
И некуда бежать от века-властелина…
Снег пахнет яблоком, как встарь.
Мне хочется бежать от моего порога.
Куда? На улице темно,
И, словно сыплют соль мощеною дорогой,
Белеет совесть предо мной.
***
Жизнь упала, как зарница,
Как в стакан воды ресница.
Изолгавшись на корню,
Никого я не виню.
Хочешь яблока ночного,
Сбитню свежего, крутого,
Хочешь, валенки сниму,
Как пушинку, подниму.
Ангел в светлой паутине
В золотой стоит корзине,
Свет фонарного луча –
До высокого плеча.
Разве кошка, встрепенувшись,
Черным зайцем обернувшись,
Вдруг простегивает путь,
Исчезая где-нибудь…
Как дрожала губ малина,
Как поила чаем сына,
Говорила наугад,
Ни к чему и не впопад.
Как нечаянно запнулась,
Изолгалась, улыбнулась –
Так, что вспыхнули черты
Неуклюжей красоты.
Есть за куколем дворцовым
И за кипенем садовым
Заресничная страна, –
Там ты будешь мне жена.
Выбрав валенки сухие
И тулупы золотые,
Взявшись за руки, вдвоем
Той же улицей пойдем,
Без оглядки, без помехи
На сияющие вехи –
От зари и до зари
Налитые фонари.
Безвестно умер в лагере под Владивостоком весной 1938 года